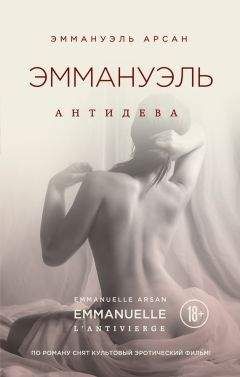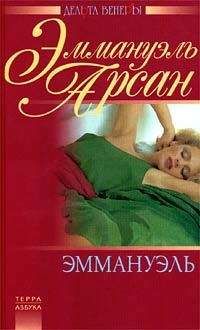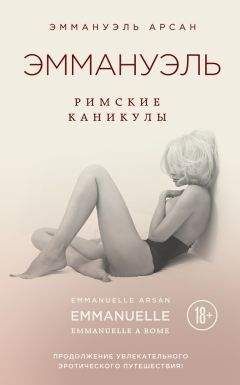Жан Сальван склонил голову набок и пояснил:
– Порой эта накрененная толпа народа сильно сбивала с толку, поскольку казалось, что кренится сама церковь!
О чудо: Лона засмеялась!
Жану показалось, что еще немного – и он бросится ее целовать.
Но все же, не торопясь, он продолжил:
– Спустя несколько часов мы с Аурелией вдруг поняли, что тоже можем смеяться вместе. Более того, пользуясь шумной обстановкой в церкви, мы мало-помалу завязали разговор.
«Лона, – думал он, – разговаривает со своей грудью пальцами. Ах, если бы эти соски могли отвечать! Я бы напился их словами».
Пока же пальцы девушки возобновили с грудью увлекательный немой диалог, к которому Жан все еще не был допущен. Но тот философски рассудил, что уж лучше такой односторонний диалог, чем какая-то неясная тишина.
– Как я уже сказал, юбка Аурелии была гораздо длиннее, чем обычно. Но она была узкой, так что иногда, приподнимаясь, приоткрывала несколько вожделенных сантиметров над сапогами, когда Аурелия поднималась и спускалась по ступеням, наклонялась, чтобы рассмотреть изображения внизу стен, или же просто присаживалась: в церкви не было ни скамеек, ни стульев – только лишь пьедесталы или выступающие над полом большие квадратные плиты, которые и способствовали обнажению ног девушки.
Образ Аурелии, сидящей у основания колонны, пробудил в нем то же внезапное непреодолимое желание, что он испытал в церкви. Это желание сдавливало горло, виски. Когда Жан вновь заговорил, он почувствовал легкую боль на пересохших губах:
– Аурелия сидела, а пастушка смотрела на ее колени… Преисполненная безумной любви пастушка, со всей красотой принимавшая в дар эти колени, что были сексуальнее любой наготы…
Жан вовремя заметил, что отвлекся, и почти с сожалением вернулся к рассказу:
– Вскоре я заметил, что обнаженные колени Аурелии приводили монахов чуть ли не в состояние шока. Сначала я решил, что это было своеобразное проявление их чрезмерного целомудрия. Но потом я припомнил, что некоторые пасторы не раз проходили мимо Аурелии в тот день, когда я стал свидетелем их немого восхищенного диалога с пастушкой.
(«Не слишком ли часто я упоминаю в своем повествовании это чудо?» – забеспокоился Жан. И он решил следить за своими эмоциями.)
– И тогда ни один из них не проявил ни малейшего интереса к ногам и бедрам, которые были обнажены куда более нескромно, чем теперь, в церкви. Помнится, их отчужденность вызвала у меня даже некоторое отвращение. По мере того как день клонился к вечеру, я стал уделять все меньше внимания фрескам на стенах и начал осматриваться по сторонам, подмечая взгляды монахов. Вскоре стало очевидно: причиной не только возмущения, но и сильного вожделения монахов были именно колени девушки и ничто иное.
(«Почему я не говорю Лоне о своем возбуждении? Не потому ли, что у монахов оно возымело куда больше последствий? Или, быть может, потому, что чувства священников для Лоны понятнее, чем мои? С другой стороны, что я вообще знаю о том, что она сейчас ощущает?»)
– Вне зависимости от того, как Аурелия невольно демонстрировала свои колени (сзади, спереди или сбоку), эффект был одинаково бурный. Губы служителей культа начинали дрожать, взгляды стекленели, пальцы судорожно сжимали рукояти костылей. Если они в тот момент танцевали или пели, то сам танец превращался в какое-то идиотское топтание, а пение обращалось нелепым блеянием. Молитвы стихали на полуслове. Я не мог видеть, что творилось под их изодранным подобием ряс. Но судя по тому, что среди них присутствовали мужчины всех возрастов, реакция должна была быть индивидуальной.
– А что об этом думала Аурелия?
Внезапный звук голоса Лоны поверг Жана в еще большее замешательство, чем монахов – колени Аурелии. Однако он куда быстрее их обрел хладнокровие.
– Сначала я ее ни о чем не спрашивал. С течением времени и по мере нашего общения лед между нами растаял, так что, когда она перешагнула через очередное невысокое заграждение, я рискнул заметить:
«Монахов фактически сводит с ума та небольшая часть ваших обнаженных ног, которую вы демонстрируете».
Она посмотрела на свое колено так, словно видела его впервые, и, помедлив некоторое время, ответила:
«И я их прекрасно понимаю».
Несколько минут спустя она обнаружила в стене, на высоте пилястра, какой-то провал и попросила меня помочь ей забраться внутрь. Я сцепил ладони, она встала на них и без особого труда пробралась в дыру. Оказавшись внутри этой ниши, она села, выставив наружу свои белые круглые колени. В тот момент я, как никогда ранее, был тронут их изящным рельефом. На меня словно снизошло озарение, я постиг таинство их ямочек и восславил веру в коленные чашечки… Как правило, запоздалые адепты становятся самыми ярыми обожателями своего идола.
– А как на это отреагировали священники? – требовательно спросила Лона.
Ее дыхание стало прерывистым. Сложно было объяснить почему: то ли так на нее подействовала история Жана, то ли давали о себе знать непрерывные движения пальцев. Вероятно, девушка уже была готова к оргазму.
– Ну, они решили поклониться коленям Аурелии, торчавшим из табернакля[45]. Монахи принялись раскачиваться, опираясь на свои посохи. Какое-то время они замирали, наклонившись в одну сторону, а затем, подобно маятнику метронома, склонялись в другую. Потом они принялись хором бормотать нечто неразборчивое. Постепенно гул нарастал и вскоре уже громом шумел под сводами церкви.
Из горла Лоны вырвалось некое подобие мяуканья и тут же стихло. Жан, слишком увлеченный своей историей, этого не заметил.
– Было ли это выражением идолопоклонничества существу из плоти и крови или же духовным гимном, присутствующим во всех элементах нашего мироздания, но, так или иначе, этот священный шум пробудил во мне смирение истинного новообращенного. А ведь я до той поры, если видел ногу женщины, хотел тут же заполучить ее всю целиком. О красоте женской ноги я мог судить лишь по степени ее обнаженности. Завидев одну только лодыжку, я уже сгорал от нетерпения увидеть бедра и вагину… Но в ту минуту я обрел познание того, что эфиопские монахи осознают чисто инстинктивно: вся женская красота или уродство может уместиться в одном ее колене.
Лона в этот момент была сосредоточена на своей груди. Как же давно она знала все то, что ей только что с таким восторгом рассказывал Жан! «Бедные мужчины!» – с жалостью подумала она, и сердце ее преисполнилось глубочайшей нежностью к Аурелии, к этой смелой проповеднице земель куда более миссионерских, чем вся Абиссиния!
– Аурелия, – сказал Жан, – догадалась, о чем я думал, и жестом попросила меня поймать ее: она собиралась спрыгнуть. Так она впервые оказалась в моих объятиях, и я тотчас же позабыл о монашеском фетишизме и об их воинствующем либидо.