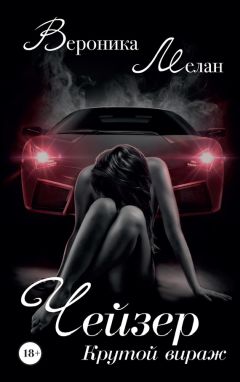— Да. Отказываюсь, — слова не прозвучали — бесплотно прошелестели, ничем не наполненные. Пустые, как оболочка призрака.
Представитель Комиссии покачал головой.
— Формулировка не принимается. Вы должны назвать имя и пояснить, что отказываетесь от любых прав на стоящую перед вами женщину.
Они не дались ему просто, эти слова — она запомнила это навсегда. Запомнила сквозь болезненно-гулкий стук сердца, сквозь стоящие пеленой слезы, сквозь пронзившую грудь боль.
— Я отрекаюсь от Лайзы Дайкин. От нее. И любых прав на нее.
Печать на плече медленно похолодела — так остывает тело с изъятой искрой, так стекленеют глаза покойника, неспособные более различить цвет неба.
Когда судья объявил о том, что мистер Аллертон и мисс Дайкин более не имеют права общаться и должны неукоснительно соблюдать это правило в будущем, Лайза не сумела даже отреагировать.
Онемели ноги и руки.
Онемел язык.
Онемел разум.
* * *
— Наказывай.
Мак больше не чувствовал. Не мог, не хотел, забыл как.
Наказание? Что может быть страшнее вырванной с корнем души? Заставили сказать — он сказал. Заставили разъединить узы — он разъединил.
Вот только жить дальше за него некому.
То был первый и единственный раз, когда Дрейк коснулся его плеча — Аллертона тряхнуло, по телу на секунду прошла электрическая волна, он повернулся от окна, в которое смотрел, и уперся взглядом в серьезное лицо Начальника.
Тихий кабинет, кажущийся низким после зала суда потолок.
— Я не буду тебя наказывать, Мак.
Тот лишь горько усмехнулся. Плевать.
— Как хочешь.
Дрейк не отреагировал на фамильярность. Смотрел странно: сосредоточенно и хмуро, в этом взгляде Мак будто ступал по спирали собственной судьбы.
— Почему ты запретил нам общаться, Дрейк? — То был единственный вопрос, царапающий кровоточащую рану острым железным краем. — Мы могли бы что-то исправить, что-то понять, что-то… сделать…
Он ведь не заплачет? Нет, не позволит себе, ведь мужчина… Не перед собственным Начальником так стыдиться. Не перед собой.
— Ты хотел, чтобы она осознала? Это был единственный вариант.
Мудрый и тяжелый ответ.
— Но… — Аллертон не выдержал, горько усмехнулся. — Ведь она уже.
— Просто поверь мне.
Больше Начальник не сказал ничего.
Открыл дверь и жестом указал в коридор.
Двое суток прошли, как во сне.
Лайза едва ли помнила, как добиралась до работы, как уходила с нее и что рисовала на рабочем месте. Что-то тусклое, невзрачное, убогое, отражающее состояние души.
Шеф хмурился, с нелюбовью глядел на эскизы, молча сочувствовал неизвестному недугу, напавшему на лучшую работницу отдела, и ждал, когда же тот отступит. Корить не корил, но и не радовался. Клиенты капризничали.
Лайза старалась.
Она не помнила, что ела, и ела ли.
Вроде бы что-то пила — по крайней мере, чашка с остывшим кофе сиротливо стояла в углу, отвернутая смайликом к стене. Календарь сняла вовсе — не хотела помнить дат и смотреть на отражение уходящего времени. Которого у нее теперь так много. Бесконечно, ненужно много.
Под вечер второго дня в гости без приглашения пришла Элли, и Лайза с порога разрыдалась у нее на плече.
Они просидели долго, почти до ночи. За кухонным окном на Нордейл опускались сумерки.
— Не кори себя! Нельзя! Не нужно это теперь, и бесполезно.
Лайза не слышала. Ни правильных слов, ни мудрых советов; чувствовала лишь, как обнимают, утешая, руки.
От горячего чая почему-то морозило; шелестели за окном превратившиеся за день из летних в осенние листья.
— Почему вынесли такое странное решение? Зачем, Элли? Какая им разница, общаемся мы или нет?
— Не знаю. Комиссия всегда выносит странные решения.
— Ненавижу их. Ненавижу! — В дрожащих пальцах отломилась фарфоровая ручка; Лайза слепо посмотрела на нее, молча выкинула в ведро, отставила чашку и опустила голову. Перед глазами стоял тот взгляд — тот самый особенный предназначенный только для одной взгляд. И мысленный диалог, от которого она теперь рыдала по ночам.
«— Я должен отказаться от тебя, принцесса… я должен….»
«— Не делай этого!»
«— Прости меня…»
Ей хотелось выброситься с балкона.
Но однажды он уже приехал, чтобы спасти ее после такого вот глупого решения. Спас ценой рокового суда, и теперь она никогда не причинит себе вреда. Не для того, чтобы перечеркнуть жирной чертой все, ради чего старался Мак.
Представляя, как располосует ему сердце ощущение беспомощности, стоит ей опять сглупить, Лайза белела в лице, а под глазами надолго залегали тени.
Элли все понимала без слов. Но все же старалась ими же и утешить.
— Послушай меня, если бы когда-то не Комиссия, все в моей жизни пошло бы по-другому…
— Да уж. Не было бы того Корпуса. И чертовой ловушки в твоей голове.
Они обе до сих пор иногда вздрагивали от воспоминаний о событиях той поры. Страшных событиях — никому таких не пожелаешь.
Подруга качала белокурой головой.
— Но не было бы и Ниссы, Эдварда. Все пошло бы иначе, понимаешь? Я потом много думала обо всем этом, уже позже, и поняла, что если бы ни Корпус, ни Комиссия, я не стала бы сильнее.
— Ты никогда не была размазней.
— Я всегда была мягкой, Лай. Слишком. А они заставили меня собраться.
— Через что, через боль?
Эллион долго молчала; в застывших голубых глазах проносились отголоски прошлого: бетонные стены Корпуса, побег, часы одиночества в ожидании смерти. Да, боли было много.
— Но все это в итоге помогло настать счастливому концу. Началу новой жизни.
— Повезло тебе. Но это не значит, что так будет и у меня.
— Никогда не знаешь.
Когда Элли ушла, Лайза свернулась калачиком на диване и притихла; хотелось замереть и застыть. Навсегда. Подобно мухе в янтаре. Но в груди билось сердце, а за окнами текла жизнь. Движение. Оно продолжалось независимо от желаний. Молящий о забвении разум не способен остановить пульс. А жаль.
Лайза положила ладонь на немую рисунок-печать и закрыла глаза.
* * *
(Julie Zenatti — Fragile)
Вечером следующего дня она не удержалась: приехала на знакомую улицу, припарковалась на противоположной стороне дороги и какое-то время сидела в машине, глядя на дом. Почти стемнело, но окна не зажглись.
Пустой особняк — ни движения, ни звука. Не мелькала за занавесками тень, не горел над гаражной дверью фонарь.
По дороге шурша прокатились высохшие листья.
Лайза сдавила руль Миража до боли в пальцах; сенсор, наверное, до сих пор настроен на узнавание ее лица, а в спальне так и висит картина с синими и желтыми линиями. Вспомнился собственный звенящий смех, когда ее несли по лестнице наверх, запах попкорна, декоративная ветка в вазе, шкворчание утренней яичницы на плите…
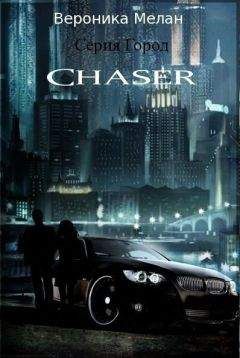

![Вероника Мелан - Чейзер [litres]](https://cdn.my-library.info/books/13194/13194.jpg)