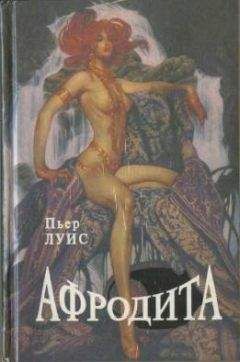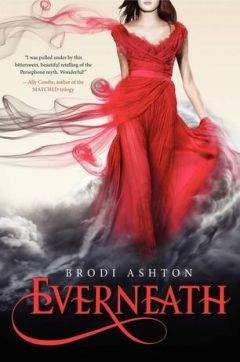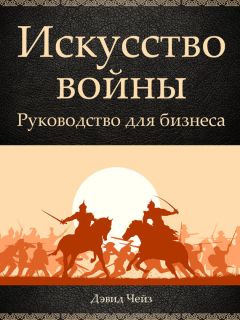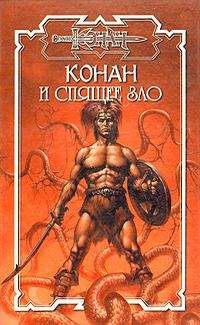На Александрийской дамбе
На Александрийской дамбе пела какая-то певица. По обе стороны от нее сидели на белом парапете две девушки и играли на флейтах.
Два козлоногих сатира нимф перепуганных гнали.
Слезы, проклятья и вопли слышались в чаще лесной.
Горе! Попались бедняжки! Вот их схватили за косы.
Вот уж владеют сатиры девами в смятой траве.
Что козлоногим стенанья полубогинь оскорбленных?
Похоть свою насыщая, Эрос не знает стыда.
Женщины! Женщины! Женщины!
Кто ваши груди вздымает?
Кто иссушает вам губы? Кто содрогает вам плоть?
Кто иссушает вам губы? Кто ваши груди вздымает?
Кто вам из уст исторгает мучительно сладостный стон?
Эрос!
Девушки, игравшие на флейтах, вторили: — Эрос! Эрос!
Аттис, Кибелой гонимый, красою сродни Аполлону.
Эрос, ты в сердце Кибелы стрелою Любви угодил.
Немилосердный, ответствуй: сам-то любить ты умеешь
Или же всех ненавидишь? Немилосердный, ответь!
Через поля и дубравы Кибела за Аттисом мчится,
Чтоб ледяное дыханье смерти вдохнуть в беглеца.
Мчится она, чтоб исторгнуть
из уст его пламенно-нежных —
Женщины! Женщины! Женщины! —
мучительно сладостный стон.
Эрос!
— Эрос! Эрос! — пронзительно вторили флейтистки.
Пан за Сирингою гнался — дочерью вод тихоструйных,
Дочерью вод полнозвездных, дремлющих в чаще лесной.
А злобно-изменчивый Эрос незримо лобзал ее груди,
К ланитам ее и бедрам, невидимый, припадал.
Пан за Сирингою гнался,
всем сердцем возжаждав нимфу,
Но тень лишь узрел беглянки,
на волнах дрожащую тень.
Эрос, могучий Эрос владеет людьми и богами,
Он властен даже над смертью! Всевластен! Необорим!
Над нимфы могилой подводной
сорвал камышинку Эрос —
Он даже над смертью властен! Всевластен! Необорим!
Припал к камышинке губами,
исторгнув из флейты-сиринги —
Женщины! Женщины! Женщины!
— мучительно-сладостный стон.
Эрос![1]
Пока флейты еще допевали последнюю мелодию, певица протянула руку к прохожим и, собрав четыре монеты, спрятала их в свою сандалию.
Постепенно толпа рассеивалась; многочисленные зрители с любопытством озирали друг друга. Шум их шагов и голосов заглушал даже плеск моря. Матросы вытягивали лодки на берег. Вокруг сновали продавцы фруктов с полными корзинами через плечо. Нищие робко протягивали дрожащие руки. Ослы, навьюченные полными бурдюками с вином и маслом, терпеливо переминались у изгороди, к которой были привязаны.
Солнце садилось, и на дамбе собралось куда больше праздношатающихся гуляк, нежели занятых делом тружеников. То здесь, то там люди собирались вокруг какой-нибудь женщины. Слышались голоса, окликающие знакомых. Молодые богатые люди снисходительно озирали задумчивых философов и с интересом разглядывали куртизанок.
А они собрались здесь всех рангов и возрастов, начиная от самых знаменитых, облаченных в легкие цветастые шелка и сандалии из тончайшей золотистой кожи, и до самых ничтожных, ходивших босиком и одетых кое-как. Это не значило, что бедные куртизанки были менее красивы, чем богатые, просто они оказались менее удачливы, однако мужчины обычно не удостаивали вниманием тех, чья прелесть не была подчеркнута изысканными одеяниями и множеством драгоценностей.
Дело происходило в канун праздника Афродиты, поэтому женщины особенно тщательно выбирали себе одежды, стараясь подчеркнуть достоинства фигуры; но некоторые из самых молодых вообще явились обнаженными. Их нагота никого не смущала — ведь вечерний полумрак накидывал на них свои легчайшие покрывала; но только те рискнули бы выставить свои прелести при солнечном свете, кто полностью был уверен в их совершенстве!
— Трифера! Трифера! — Какая-то молоденькая куртизанка весело растолкала прохожих, чтобы присоединиться к подружке. — Трифера, ты приглашена?
— Куда, Сезо?
— К Бакис.
— Еще нет. Она дает ужин?
— Ужин! Настоящий пир, моя милая. Во второй день праздника она отпускает на волю свою самую красивую рабыню — Афродизию.
— Наконец-то! Наконец-то она поняла, что к ней приходили только ради ее служанки.
— Я думаю, она ничего так и не поняла. Это все причуды старого Кереса, судовладельца. Он хотел купить рабыню за десять мин — Бакис отказала. Он предложил двадцать — она вновь отказала.
— Сумасшедшая!
— Ну, ты же знаешь Бакис. Ей так хотелось иметь вольноотпущенницу! Да и Афродизия стоит того, чтобы из-за нее поторговаться. В конце концов, Керес предложил тридцать пять мин, и только тогда Бакис уступила.
— Тридцать пять мин? Три тысячи пятьсот драхм?! За негритянку!
— Ну, отец-то ее был белый.
— Зато мать была черной.
— Бакис поклялась, что не уступит ее дешевле, а старый Керес совсем потерял голову от любви к Афродизии, вот он и согласился.
— А его-то пригласили на пир?
— Нет. Его час еще не настал. На пиру Афродизия будет десертом: каждый насладится ею в меру своего желания, и лишь на следующий день ее отдадут Кересу. Правда, боюсь, что она слишком устанет...
— Не волнуйся за нее. Керес частенько будет давать ей передышку! Я ведь знаю его, Сезо. Помню, он заснул, когда я была с ним.
И обе посмеялись над Кересом, а затем, отмерили друг дружке положенное количество учтивых комплиментов.
— Какое красивое платье! — с восхищением и завистью воскликнула Сезо. — Рисунок вышивки ты придумала сама? Это сделали твои рабыни или наемные мастерицы?
На Трифере было одеяние из тончайшей ткани цвета морской волны, расшитое цветами ириса. Темно-красный рубин, оправленный в золото, скреплял складки на левом плече; правая грудь и вся правая половина тела были обнажены до самого металлического пояска; подол был узок, к тому же раздвигался при каждом шаге, обнажая белизну ног.
— Сезо! — окликнул кто-то. — Сезо и Трифера, идите со мной, если вам нечего делать. Я иду к Керамику, посмотреть, написал ли там кто-нибудь мое имя.
— Музарион, малютка, ты откуда?
— Из Фара. Там никого.
— Что?! Там всегда столько народу, только успевай цеплять.
— Мелкая рыбешка. Я иду к стене. Пойдемте со мною.
По пути Сезо снова рассказала о грядущем пире.
— А, у Бакис! — воскликнула Музарион. — Трифера, помнишь последний ужин у нее и то, что говорили о Кризи?
— Не сплетничай. Сезо ее подруга.
Музарион умолкла, но Сезо уже спросила озабоченно:
— А что, что о ней говорили?
— Да так, разные слухи.
— А, пусть говорят! — отмахнулась Сезо. — Мы втроем не стоим ее одной. Я знаю многих наших любовников, которые и думать о нас позабудут, если только Кризи решится переехать из своего квартала в Брушиен.