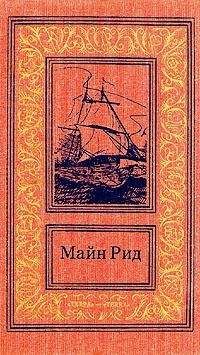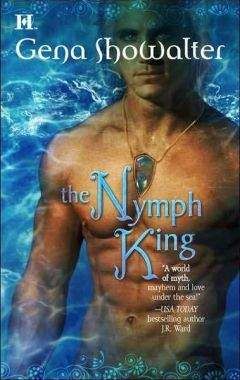Я даже помню, что вырезала одно имя на коже платана и что оставила часть туники своей на дороге, где проходил кое-кто.
Я вспоминаю, что была любима… О, Панникис, мое дитя, в чьих руках оставила я тебя?
Сегодня же и навеки лишь одна Мназидика обладает мной; я принесла ей в жертву счастье тех, кого покинула ради нее.
Мназидика, взяв меня за руку, повела за городские ворота, до клочка невозделанной земли, где стояла стела из мрамора. И она молвила: «Это — могила подруги матери моей».
Меня охватила сильная дрожь, и, не выпуская ее руки, склонила я голову на ее плечо, чтобы прочесть четыре стиха меж углублением фонтана и змеей:
«Не смерть увела меня, а нимфы фонтанов. Я покоюсь здесь, под легкой землей, с волосами, остриженными Ксанто, что единственная оплакала меня. И я не назову имени своего».
И долго стояли мы, не совершая жертвенного возлияния: ибо не знали, как вызвать неизвестную душу из толпы ада.
Тройственная красота Мназидики
Чтобы Мназидике покровительствовали боги, я пожертвовала Афродите-Что-Любит-Улыбаться двух зайцев и двух голубок.
Арес я пожертвовала двух бойцовых петухов, а жуткой Гекате — двух собак, что выли под ножом.
И не без основания воззвала я к трем этим бессмертным: Мназидика носит на лике своем отражение их тройного благословения.
Губы ее красны, как медь; волосы отливают стальной голубизной, а глаза черны, словно серебро.
Твои ноги нежнее, нежели у аргентинки Тетис. Своими скрещенными руками ты соединяешь груди свои и ласкаешь их нежно, как тела двух прекрасных голубок.
Из-под волос твоих открываются влажные глаза, дрожащий рот и красные розы ушей. Но ничто, даже горячее дыхание поцелуя твоего, не остановит моего внимания.
Ибо в тайниках своего тела ты, любимая Мназидика, скрываешь пещеру нимф, ту, что воспел старик Гомер; место, где наяды прядут пурпурные нити.
Место, откуда истекают капля по капле неиссякаемые источники, откуда северные ворота выпускают мужчин, а южные — впускают бессмертных.
Робкой рукой распахивает она свою тунику и протягивает мне свои теплые и нежные груди так, как если бы предлагала богине пару живых горлиц.
«Люби их, — говорит она, — я их очень люблю! Это — мои дорогие дети. Я занимаюсь с ними, когда бываю одна. Я балую их и играю с ними.
Я окропляю их молоком. Я пудрю их цветами. Мои тонкие волосы, что вытирают их, им милы. Я ласкаю их, касаясь легко. Я укладываю их в шерстяную постель.
Поскольку у меня никогда не будет детей, будь их младенцем, любовь моя, и поскольку они так далеки от моего рта, поцелуй их за меня».
Я подарила ей куклу, восковую куклу с розовыми щеками. Руки ее прикреплены маленькими шпильками, а ноги складываются сами.
Когда мы вместе, она укладывает ее между нами, и это — наш ребенок. Вечерами она укачивает ее и кормит перед сном грудью.
Она соткала для нее три маленьких туники, и мы дарим ей украшения и цветы в день Афродиты.
Она заботится о ее целомудрии и не выпускает одну, особенно на солнце, чтобы та не превратилась в восковые капли.
Сожми нежно руки свои на мне, как пояс. О прикоснись, о прикоснись к коже моей! Так! Так! Ни вода, ни полуденный бриз не могут сравниться в нежности с дланями твоими.
Люби меня сегодня ночью, моя сестренка, сегодня — твоя очередь. Вспомни нежности, которым научила тебя я в минувшую ночь. И поскольку я устала, опустись молча предо мной на колени.
Твои губы опускаются на мои, волосы следуют за ними, как ласка — за поцелуем. Они скользят по левой груди моей и скрывают глаза.
Дай же мне руку твою. Она горяча! Сожми мою, не выпускай ее. Руки соединяют лучше ртов, и страсть их ни с чем не сравнима.
Я — игрушка для нее, лучшая, чем все мячи и куклы. Долго и молча, как ребенок, она забавляется каждым участком моего тела.
Она распускает мне волосы и вновь собирает их по прихоти своей: либо завязывает под подбородком, как платок, либо поднимает в шиньон или заплетает в косы.
Удивленно она разглядывает цвет моих ресниц, ямку локтя. Иногда же заставляет меня встать на колени и положить руки на простыни.
Тогда (и это — одна из игр) она скользит головкой вниз, имитируя дрожащего козленка, что сосет у брюха матери своей.
Под прозрачным льняным покрывалом мы скользим, она и я. Головы наши склонились, и лампа освещала ткань над нами.
Таким я увидела ее дорогое тело в таинственном свете. Мы были так близки, так свободны, так обнажены. «В одной рубашке», — говорила она.
Мы оставались под покрывалом, чтобы быть еще больше открытыми. И в душном воздухе постели два запаха женских подымались от двух естественных курильниц.
Никто в мире, даже лампа, не видел нас этой ночью. Кто из нас была любима, лишь она и я, мы можем это сказать. А мужчины, те вовсе не узнают об этом.
Она спит среди распущенных волос, руки запрокинуты за затылок. Снится ли ей что-нибудь? Рот ее приоткрыт, дыхание свободно.
Пером белого лебедя, не разбудив, я вытираю пот ее рук, лихорадку щек. Ее сомкнутые вежды, словно два голубых цветка.
Очень тихо я поднимаюсь: пойду зачерпнуть воды, подоить корову, взять огня у соседей. Я хочу быть завитой и одетой, когда она откроет свои глаза.
Сон, задержись меж прекрасных загнутых ресниц и продли ночь счастливым cновидением.
Я исцелую из конца в конец длинные черные крылья твоего затылка, о нежная птица, пойманная голубка, чье сердце стучит под моей рукой.
Я возьму твой рот в свой, как ребенок берет грудь матери. Дрожи! Поцелуй проникает глубоко и достаточен для любви.
Я пройдусь легким языком по рукам твоим, вкруг шеи и по чувствительным бедрам протяжной лаской ногтей.
Послушай, шумит в твоем ухе рокот моря… Мназидика! твой взгляд причиняет мне боль. Я заключу в поцелуй твои пылающие, словно губы, веки.