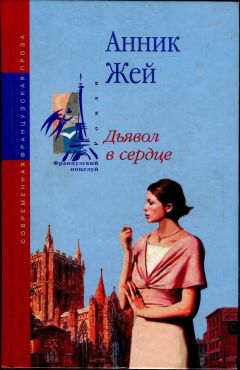В Шапель-Кадо при помощи воды из священного фонтана Мод сражалась с Анку[7], его саваном и косой. В этом фонтане плавали круглый год василек, одуванчик, полевая фиалка и таволга, а остальное делали святые.
В Вильжюифе лифты до отказа забиты больными, которые прикреплены к капельницам с лекарствами. В шумной толпе неслышно гуляет невидимая смерть. Может быть, она похожа на девушку, стоящую у стеклянной двери. Из-под красного платья высовывается трубка, в сумке находится дренаж.
В Арденнах, на этаже «патологии молочной железы», пациентки встревоженно смотрят на дверь кабинета консультации. Сколько миллионов минут ожидания потрачено в приемной? Кажется, что находишься в филиале биржи труда, только в очереди сидят одни женщины. Каждая больная раком входит, закрывает дверь, задвигает щеколду, раздевается и выходит через тридцать минут; ее сменяет сестра по несчастью.
«Это не женщина, — думает Элка, — это ее рак идет на встречу с консилиумом специалистов. Рак правит бал, он противопоставляет больных белым халатам». Все приветливы, все негромко говорят, они понимают, что женщина вскоре может умереть.
Я научилась вдыхать и выдыхать, сдерживая боль. Под моим свитером всего лишь одна грудь. Я забыла надеть протез. Я некрасива, моя фигура кривая. Бертран найдет объяснения моему опозданию.
— Мадам! Вы слышите меня? Я спрашиваю, вам нужен ресторан на углу бульвара Сен-Жермен и бульвара Распай?
Водитель, женщина, прерывает мои мысли. Я вздрагиваю и подаюсь вперед.
— Да, это тут, — глухо говорю я.
Зимой Париж сверкает тысячью огоньков. Париж, пожалуй, единственный город в мире, где больные раком, глядя на эти волнующие отблески, отказываются умирать. Среди такой красоты больные, гуляющие по вечерам, особенно сильно хотят выздороветь. В то время когда я еще жила, я мало обращала внимание на городской пейзаж. Я на все смотрела взглядом оценщика — и это результат работы в сфере недвижимости. Для меня город был только стройкой, перемещением с одного объекта на другой. Женщина-водитель со станции «Ж-7» останавливает машину перед «Регатой». Она смотрит на меня с подозрением, как будто у меня ружье. У рака есть еще одна положительная черта: вам абсолютно все равно, что о вас подумают.
В «Регате», где в лучшие времена я проводила столько вечеров, я сталкиваюсь с Денизой Дюма, директрисой «Обзора агентств». Специалистка на секунду задерживает на мне взгляд.
Потом проходит мимо, как будто я невидима, и тем самым она совершает маленькое убийство большого масштаба, хотя убийцы такого рода никогда о других не думают. В «Регате», этом кулинарном «Титанике», где у стольких земельных менеджеров есть именное кольцо для салфетки, я вспоминаю все предыдущие убийства.
Я отворачиваюсь. Она скрывается. Я из прошлого, я призрак, а с призраками не стоит связываться. Поначалу, ощутив свою бестелесность, я страдала оттого, что встреченные в Париже X или Y не узнавали меня. Теперь же мне наплевать.
Бертран ждет меня в глубине зала. Седые волосы, очки полумесяцем, галстук, красивый старомодный жилет. С первого взгляда понятно, что это ценитель искусства. Я осматриваюсь, нахожу знакомые лица. Улыбаюсь Пьеру или Полю; никто меня не замечает. Метрдотель похож на персонажа из массовки «Бала вампиров». Официантка, должно быть, начинала у Робло. Ничуть не растерявшись в этой унизительной обстановке, Бертран заказывает устриц и морской язык, я беру то же. Ни его старость, ни мой рак не портят нам аппетит.
Бертран рассуждает о будущем. Я в него не верю, но помалкиваю. Зачем огорчать единственного оставшегося друга? И если мне суждено умереть, то пусть он сохранит воспоминание о моем самообладании.
Я учусь жить совершенно одна, с моими кошками. Вспоминаю полотно Йосефа Израэлса «Старые товарищи» — это я. Когда я не пишу, то гадаю на картах. «Черноволосый юноша» (король пентаклей) повторяется, как заевшая пластинка. Один раз я вытащила перевернутую карту Смерти. Так что же: прорыв, изменения, новая жизнь или Курносая? Я купила книгу «Зелья и порчи». В память о Мод я изучаю магию.
Иногда я случайно вижу свое тело в зеркале. Это издевка надо мной. К счастью, онкологи при виде шрамов не пугаются. Больная раком, изуродованная кем-то из них, — такое они видят каждый день. Онкологи осматривают мое тело, суют нос в рану, как будто рассматривают самую банальную вещь на свете. Они не слабаки: они постоянно видят изнанку рака. Может быть, выход — это спать с онкологом?
Предупрежденный мудрецами из Комитета 101, д-р Жаффе отменяет следующий укол. Меня должны были стерилизовать, и вот ко мне пришла мисс Кровотечение. Вместо того чтобы иссякнуть, кровь брызжет во все стороны! Истощение! Я опустошаюсь, я истекаю! Какая же я неблагодарная пациентка.
Я всегда знала, что мной движут гормоны и что они так просто не сдадутся. Эстрогены и прогестерон были эликсиром молодости. Сумасшедшие гормоны правили бал. В блеске глаз, под кожей, в рождении желания — везде царила мисс Либидо. Ведомая ею, я любила без оглядки, работала и жила на полную катушку. Я испытывала удовольствие, я строила планы.
Чтобы победить рак, надо убить самку. Теперь я стану только личностью. Как многие бунтари, я многим обязана Симоне де Бовуар, но, что бы там ни говорил Бобр, я больше ценила в себе женщину.
* * *
Элка впала в спячку. Ее живот раздулся, как будто она была беременна своими бедами. Элка поняла, что человек, потерявший здоровье, как правило, очень одинок. Это было все равно что оказаться на необитаемом острове, окруженном пакетботами и парусниками, которые не хотят бросить якорь и послать спасательную шлюпку. Улыбающиеся матросы машут руками.
«Держитесь!» — подбадривают они с борта.
А Элка все смотрела и смотрела, как на улице Томб-Иссуар падает снег.
31 декабря, четырнадцать часов
Я возвращаюсь из Вильжюифа. Диагноз д-ра Жаффе непримирим: против меня вновь заговорит оружие, опять скальпель, полюбивший меня скальпель, — опять операция. «Я больше не выдержу», — удрученно думаю я. Мы думаем, что мы не можем, но мы сможем. Видишь ли, Франк, трудно передать словами, что может вынести человеческая природа. Как, впрочем, и многое другое, боль — всего лишь привычка.
Иногда мне хочется закрыть тетрадь: так тяжело все это писать. Заложница болезни в сгущающейся ночной мгле, я думаю об этой последней встрече, на которую тебе придется согласиться. Я вручу тебе эту тетрадь, ты узнаешь о Любви, ты узнаешь обо всем, а потом попробуй с этим справиться.
Меня отпустили из Поль-Брусса, где я прохожу предоперационное обследование, я читаю старые записные книжки, пожелтевшие письма. На фотографиях — поблекшие лица, на бумаге — выцветшие буквы. Память великодушна. Она избирательна. Мы помним страдание, но не помним подробностей. Поэтому так важны письма, фотографии, записные книжки. Лучше всего, когда ты действуешь на своей территории; мне надо разбередить рану, я прорастаю в нее, выискиваю улики и доказательства. У меня нездоровая мания все хранить: служебные записки, поздравительные открытки, номерки из гардероба, театральные программки, — есть из чего выбирать!
В зеркале я вижу свое странное и загадочное отражение. Знай, Франк, у человека три лица. Наше привычное, каждодневное — это всего лишь набросок другого, того, которое проявляется, когда мы страдаем. А последнее лицо — это маска смерти, она изменяет черты лица, выявляя его истину. Я наблюдаю за своими собственными изменениями. Это, конечно, все еще я, но и как будто кто-то другой. Почти красивая отшельница; так страдание стирает все незначительное, чтобы изваять саму сущность бытия и придать истинную значимость — то величие, которое роднит всех людей.
Глядя на свое отражение, я вижу глаза обреченной, заблудившейся в дремучем лесу. Уже темнеет. Ей бы спросить дорогу у прохожего, но он никогда не появится, потому что разумен и не заблудится! Рот как рот — отверстие для принятия пищи, впалые щеки, лоб стал лбом в полном смысле слова — огромным, просто необъятным. Из-за худобы глаза как будто вылезли из орбит.
На тощих плечах болтается полосатая пижама; я и темница, и каторжник, я и приговоренный, и надзиратель, а моя Вселенная — концентрационный лагерь. Можно обмануть дозорного на вышке и сбежать от всего, но не от себя. Измененная ладонь без линии любви, без линии жизни. Светлое будущее в могиле! Исхудавшие пальцы, что большой, что средний, выглядят, как мизинец. Моя кисть стала похожа на большого паука. Я пишу — поэтому, к несчастью, она все время перед глазами.
* * *
Вечером перед операцией Элка сказала Теобальду, что в случае печального исхода она хочет быть похороненной на еврейском кладбище Фонтенбло.