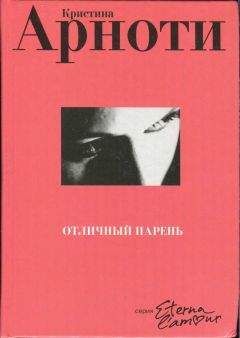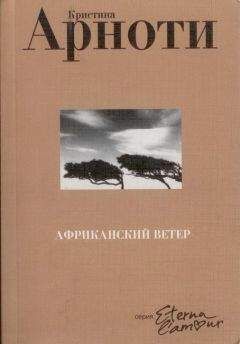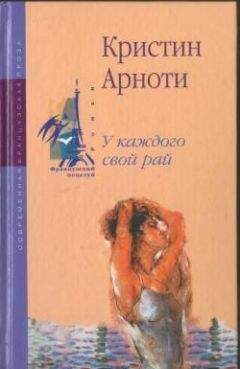Наконец она вбегает в свой номер. Молодая горничная стелет постель под оглушающие звуки джаза, доносившиеся из радиоприемника.
— Здравствуйте, — говорит Анук.
Горничная и ухом не ведет. Когда она отходит в сторону, Анук выключает радио. Та возвращается и снова включает на полную громкость радио. Анук говорит строгим тоном:
— Я не желаю слушать радио… У меня раскалывается от него голова…
Однако горничная словно не слышит ее замечания. Анук снова выключает радио.
Девушка бросает взгляд на горничную. Чернокожая девица, не проронив ни слова, с грозным видом продолжает уборку. В свою очередь, она искоса поглядывает на светловолосую клиентку отеля. Анук переодевается, ничуть не смущаясь присутствия горничной. «Если ей не нравится, пусть выйдет в коридор». Она стоит перед распахнутым платяным шкафом. Зеркало, прикрепленное к внутренней стороне створки шкафа, отражает каждое ее движение. Анук снимает бикини. На несколько секунд она остается в чем мать родила. Затем, не торопясь, она надевает трусы, лифчик, легкие брючки из чистого хлопка и такую же рубашку. Темные солнечные очки, кепочка с козырьком из ткани на голове, и она уже готова. Юный гаврош, только что вышедший из шикарного парижского бутика.
Она берет сумочку и выходит из номера. Не успела за ней захлопнуться дверь, как за ее спиной вновь раздаются громкие звуки джаза…
Часы показывают восемь минут одиннадцатого, когда Анук спускается в холл отеля. Она ждет минут десять. Ее охватывает гнев. Она стискивает зубы.
Анук подходит к регистратуре и обращается к одному из служащих.
— Вы можете сказать мне номер комнаты, в которой остановился господин Стив Дейл? — спрашивает она.
— Повторите, пожалуйста, еще раз…
— Д-е-й-л…
Служащий склоняется над регистрационной книгой.
— Вы сказали: Стив…
Она волнуется. На часах уже двадцать минут одиннадцатого. «Он не придет. Он сдрейфил…» Она барабанит пальцами по стойке; служащий продолжает поиски указанной фамилии. Она произносит по-французски: «Тем хуже для него», — и направляется к главному входу. Она выходит на площадку перед отелем. Улица встречает ее запахом горячего асфальта и яркими красками жаркого лета.
— Такси, мадам?
— Да, такси.
Звучит свисток. Крик заводной птицы. Резкий звук режет ухо.
— Такси, мадам…
Она быстро садится в такси и говорит шоферу:
— Национальная картинная галерея…
Она бьет кулачком по кожаному сиденью.
«Все они тут дураки и грязные свиньи…»
— Француженка? — спрашивает шофер, наблюдающий за ней в зеркало.
— Да, — отвечает она.
— Париж — красивый город, — произносит по-французски шофер. — Это все, что я знаю на вашем языке. Я там был всего один раз. После высадки в Нормандии.
Анук чуть-чуть смягчилась.
«Все-таки эти американцы спасли Европу», — думает она. У нее всегда были высокие оценки по истории.
— Белый очнулся. Белый пришел в себя.
Роберт приходит в сознание. Он видит перед собой чернокожую девочку.
— Белый открыл глаза, — произносит ребенок с множеством торчащих косичек на голове.
Раздается звонок. Дверь отворяется.
— Здравствуйте, доктор, — говорит мадемуазель Мюллер. — Спасибо, что вы так быстро пришли…
Над Робертом склоняется пожилой седовласый чернокожий мужчина в очках с золотой оправой.
— Сколько вам лет?
— Тридцать, — отвечает Роберт.
Он вздрагивает от прикосновения холодного стетоскопа.
— Дышите глубже, дышите… Кашляйте, еще кашляйте. Легкие у вас чистые… — произносит доктор, вынимая из ушей две черные трубки стетоскопа. Хельга, ложечку…
— Постараюсь на вас не дышать, — говорит Роберт. — Когда вы будете смотреть мое горло…
— Скажите: а… а…
— Папа, я могу посмотреть горло у белого?
— Сара, сиди спокойно… И не говори все время «белый»…
— Но он же белый…
— Дети бывают такими несносными, — говорит доктор. — Настоящие исчадия ада. Хуже их только взрослые… У вас не горло, а мусорное ведро. Вам давно надо было удалить миндалины… Вам не следует долго злоупотреблять любезностью мадемуазель Мюллер. Она слишком отзывчивый человек и готова каждому прийти на помощь. Когда я потерял жену, она пришла к нам в дом и ухаживала за моими детьми. Целых три месяца. Если кому-то нужна помощь, она всегда оказывается рядом… Сегодня утром я пожурил ее. Она поступила весьма неосторожно, когда ввязалась в такую историю…
— Я могу встать, сесть в такси и вернуться в отель, — говорит Роберт.
— Лежите, — приказывает доктор. — Вернетесь в отель вечером… Я сделаю вам укол и повязку на горло… Хельга, немного спирта… Спасибо. Повернитесь.
— Пусть девочка выйдет…
— Сара, иди на кухню… Моя младшенькая… Вам все равно, с какой стороны делать укол? У меня их шестеро. Шесть дочерей и всего-навсего один сын.
— Ай…
— Ну что вы, я стараюсь не делать вам больно… Не двигайтесь… Немного кровит… Теперь ваше горло… Откройте рот…
Роберт трясется от страха: «А-а-а…»
— Хельга, салфетку…
— Доктор, сколько я вам должен? — спрашивает Роберт.
— Вечером… До свидания, милая Хельга. Идем, Сара.
Полная тишина и покой. С улицы доносится вой сирены полицейской машины.
Врач уходит. Немка возвращается с кухни со стаканом лимонного сока в руке.
— Держите! Вам надо пить побольше жидкости.
Он отпивает глоток, и лицо его кривится в недовольной гримасе.
— Вы не положили сахар.
— О! — восклицает она. — Простите. Я не употребляю сахар, чтобы не растолстеть. Подождите…
Она приносит сахар.
— Спасибо, — говорит он. — В какую идиотскую историю я влип с моей болезнью! Это так любезно с вашей стороны, что вы мне помогаете…
— Не волнуйтесь, — говорит немка. — Лежите и ни о чем не беспокойтесь. Я должна записать в книжку мои сегодняшние расходы.
Она открывает сумочку и вынимает из нее чеки из супермаркета.
— В магазине, где вы забыли свой портфель, продаются немецкие продукты… Я там кое-что покупаю для себя.
— Почему вы уехали из Германии? Ведь эта страна сейчас находится на подъеме?
— Война, мой мальчик, — говорит она с заметной иронией в голосе. — Известно ли вам, что у нас в Германии шла война? В вашем паспорте указано, что вы родились в сорок втором году. Возможно, что вы что-то слышали о событиях 1939–1945 годов?
— Конечно. Но вы же еще молодая женщина, чтобы помнить о тех далеких событиях.
— Конечно, я не старуха, но и молодой меня уже не назовешь.
— Вы красивая… А лет в двадцать, наверное, были настоящей красавицей…
— В двадцать лет? Я бы врагу не пожелала оказаться на моем месте в то время…
Немного помолчав:
— В двадцать лет я и вправду была хороша собой… Возможно, даже слишком хороша…
Роберт лежит не шелохнувшись. Затылком он ощущает свежесть наволочки. Шум с улицы едва доносится до него. Комната дышит чистотой и покоем. За стеклянным витражом, по-видимому, находится лоджия.
— Где мои двадцать лет? Какая жалость… Подождите! Я сейчас вернусь. Вот только схожу за холодным пивом. Вы не хотите еще лимонного сока?
— О, нет! — восклицает он.
Она возвращается с банкой пива, открывает ее и наливает пиво в стакан. По краям стакана оседает пена.
— Некоторые не любят пену…
— В двадцать лет я тоже чувствовал себя не очень уверенно в этой жизни, — тихим голосом произносит Роберт.
Его слова заставляют ее оторваться от горьких воспоминаний.
— Вы? Скорее всего, вы родились в шикарной клинике и с самого рождения купались в роскоши.
— Вовсе нет, — протестует он.
Комната медленно кружится перед ним. Ему кажется, что немка раскачивается на качелях.
— Меня приняла старая бабка-повитуха. Именно она отвесила по моей заднице первый в жизни шлепок. Кажется, я даже не заплакал. Среди ночи отец выгнал на улицу двух моих старших сестер. Он не хотел, чтобы они слышали материнские крики. У нас было всего две небольшие комнаты. Мы были очень бедны.
— Вы прошли долгий путь, — произносит немка.
Она вытирает губы тыльной стороной руки.
— Пена… Она пачкает лицо.
И со вздохом:
— Пропал мой выходной… Я собиралась сделать покупки, помыть голову и заказать новые шторы…
— У вас и так красивые шторы, — говорит он.
Он видит лишь два оранжевых пятна.
— И приятного цвета.
— Они висят уже третий год. Все, что я зарабатываю, приходится тратить на отпуск и обустройство квартиры. Порядок в доме обходится совсем недешево. Первое непристойное слово, которое я услышала в Берлине, это — «бардак». Люди восклицали: «Какой бардак!» И в самом деле, тогда там был настоящий бардак. Я видела много грязи и нищеты… В то время мне приходилось только мечтать о порядке и чистоте… И о белых стенах…