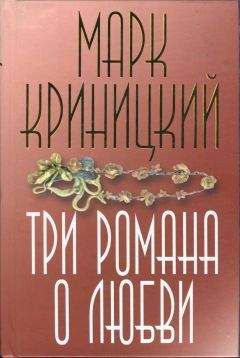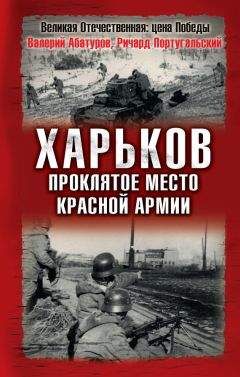— Не унывает Сережа, — сказал Кротов, вздохнув и делаясь еще более жалким. — Так…
— Секреты…
Она угрожающе, таким знакомым, хищным взглядом посмотрела на мужа (о, этот взгляд Сергей Павлович знал еще по ранним впечатлениям детства! Он ничего хорошего не предвещал для Кротова) и истерически двинулась к брату, крепко притиснув его лицо сначала к губам, а потом к своему могучему бюсту. У нее был большой запас неиспользованных материнских сил, потому что у нее не было детей.
К брату же она в особенности была нежна, как, вероятно, никогда не была нежна даже к мужу, и это в ней сердило и возмущало Сергея Павловича.
— Я тебя должна предупредить, — начала она, — чтобы ты не волновался…
Но он уже не слушал ее. Поднялась огромная, мучительная радость. Он привстал. На него замахали руками.
— Клава! — крикнул он, — где же она?
Людмила торжественно вышла в коридор.
— Можно, — сказала она своим грубым голосом.
На пороге показалась маленькая фигурка Клавдии в черном.
Он впивался в нее глазами и протягивал руки. Как они смели держать ее там, в коридоре?
Но она несмело оглядывалась на всех.
— Нам, может быть, лучше выйти? — пробормотал Кротов, не двигаясь с места.
Людмила свирепо посмотрела на него и тотчас же с жестоким любопытством перевела глаза на Клавдию.
Клавдия, в густой вуали, неловко и виновато подошла к постели и остановилась. Ему показалось, что ее лицо болезненно и желто, как воск.
Она несмело протянула ему руку. Он смотрел на нее, страдая, готовый разрыдаться при виде этого ее униженного, несчастного вида.
Вдруг его взгляд упал на торжествующе-снисходительный и жадный взгляд сестры.
— Уйди! — крикнул он ей с ненавистью. — Что за благородные свидетели?
Холодно посмотрев на мужа, точно этот окрик относился к нему, а не к ней, она сказала:
— Что ж, выйдем.
И с таким видом направилась к двери, как будто у нее не было оснований надеяться, что в ее отсутствие не разыграется какой-нибудь глупости.
Кротов с заранее уничтоженным видом (такой вид у него был всегда, когда они оба бывали вместе), поплелся за нею.
Когда они вышли, Клавдия, не протягивая руки, тихо сказала:
— Прости.
Он возмутился.
— Оставь, пожалуйста, этот вздор! Что это, в самом деле, такое за безобразие? Она приходит и говорит: прости.
Он беспокойно метался, лежа на спине.
— Мне не велят только привставать. Ты… пожалуйста, нагнись. И потом подними это… вуаль.
Когда она открыла лицо, он ужаснулся: настолько она была желта.
— Ты заболела? — спросил он с тревогой и раздражением. — Что они с тобой делали?
Она молча и с удивлением смотрела на него, точно видела его сейчас в первый раз в жизни.
— Ты… ты? — спросил он.
В лице его изобразилась печаль и конфузливое недоумение.
— Ты не хочешь меня обнять? Все еще сердишься?
Она судорожно его обняла и положила свою щеку к нему на щеку.
— Извини, — сказал он смущенно. — Я брился два дня назад. Здесь не народ, а черти.
Она незаметно для него улыбнулась и молча, без слез, обнимала и ласкала его, такого ей опять безумно милого, прежнего, беспутно легкомысленного.
— Ты… как же теперь? Тебя выпустили на поруки? — спрашивал он. — Но ведь ты же… ты им…
Он в страхе задохнулся.
— Ты им как сказала?
Она спрятала лицо в складках одеяла, пахнувшего лекарственными специями. Никогда еще она так не презирала себя, как сейчас. Если бы она была в силах, она бы сделала над собою, как Лида. Но она должна была жить, потому что была скверный, похотливый кусок мяса, который с тошнотворным ужасом отворачивался от небытия.
И то, что Сергей не прогнал ее от себя, как она этого ожидала, а звал, любил и ласкал, делало ее окончательно несчастной. Слабая, как провинившийся ребенок, она молчала. Ей было стыдно признаться ему, что она малодушно отклонила от себя вину и воспользовалась его благородством.
Ее жизнь казалась ей бесповоротно разбитой, а он, при всем своем великодушии, все-таки ненадежным и неправым перед нею. Разве она могла сказать ему обо всем этом? После того, что случилось?
И она прятала лицо в складках его одеяла, вытирая жесткою и противною шерстью одеяла скупые слезы.
— Нет, послушай… Ты молчишь, — настаивал он. — Ведь это же глупо! Неужели ты проговорилась?
Она отрицательно покачала головой, потом подняла лицо, и в нем он прочел, что она что-то скрывает.
— В самом начале только… две-три фразы… Ведь не могла же я все сразу переварить, осмыслить. Потом, мне было тогда все равно.
Она опустила ресницы, и щеки ее покрылись румянцем.
— А, черт! — крикнул Сергей.
— Ну, довольно, — сказала она, страдальчески нетерпеливо сдвинув брови, и тотчас же ее взгляд застыл в упрямом равнодушии.
— Клава!
Он возмущенно схватил ее за руку. Резкая боль в раненом плече заставила его застонать.
— Прости.
Закрыв глаза, он старался сдержать стоны, чтобы не оскорбить ее и не напомнить чего-нибудь видом своих страданий. Как это с его стороны бестактно!
— Ничего… Это пустяки… так немного…
Но она смотрела на него тем же непроницаемо-равнодушным взглядом, который говорил, что она не смеет выражать ему участия.
Не выпуская ее руки, он начал понемногу говорить. Ему хотелось ей сказать, что она ни в чем не виновата, а что виноват единственно он, что он, вероятно, не способен для той семейной жизни, о которой она мечтает. Он сказал:
— Ну, пожалуйста, перестань на меня дуться… Это неприятно… Ты, кажется, пришла меня навестить…
Она спохватилась и постаралась улыбнуться, но улыбка у нее вышла отдаленная, спрашивающая.
В ярости он постучал кулаком по спинке кровати.
— Пожалуйста, ты оставь это, — попросил он. — Ну, скажи, пожалуйста: разрядила револьвер? С кем этого не бывает! Я вот тебя мучил, может быть, сколько… так это — ничего… Ах, как глупо! Револьвер… Черт! Черт!
Скрежеща зубами, он стучал кулаком по железному пруту кровати.
— Но кому какое дело, в конце концов? Общество…
Он, покашливая, с перерывами и страдальчески хватаясь за бок, зло засмеялся.
— Я вот все лежу и думаю…
Сделав трубочкой губы, так что усы смешно оттопырились, он, передразнивая кого-то воображаемого, которого считал, очевидно, чрезвычайно глупым, сказал, нарочно шепелявя:
— Опсество… Все лгут, лгут… обманывают… играют в какие-то взаимные прятки… Потом: опсество! Не перевариваю.
— Кто лжет, Сережа… кто лгал?
Он увидел, как упорно-неподвижно, с глухим вызовом блестят ее глаза.
— Да нет! Я совсем, понимаешь, не то. Я вспомнил совсем о другом. Об этом что говорить. Я знаю, что я виноват… один во всем виноват… и поделом получил… только, знаешь, не больно… ерунда… Я думал, будет больнее. Только я, понимаешь, не о том… Я совсем о другом. Меня беспокоит такая мысль… не очень давно… как только ты заговорила… Впрочем, ты, кажется, еще даже и не говорила. Все говорю я. Но не в том суть. Я вот что подумал. Можно мне сказать?
Она безучастно кивнула головой.
— Это, наверное, глупость… так… Но, между прочим, имеет какое-то отношение. Я сказал про общество… Все это, мне думается, одни слова… Никто ничего не знает, и никакого нет общества… Вот я не умею только этого выразить…
— Тебе, может быть, вредно разговаривать?
— Постой… Ты слушай… Вот я, скажем, родился: сейчас — разные слова добро, зло, справедливость, любовь… Не умею выразить… Черт!
Он опять постукал кулаком по железному пруту.
— Понимаешь, в сущности, нет ни справедливости и ничего… так, разные слова. И потом еще есть сердце человека. И общества никакого нет… и, следовательно, этих «интересов» общества… и суда никакого над человеком нет… Все это страшная ерунда. Не перевариваю. Запрут двух людей в каморку. И ничего, кроме слов. А сердце будто так, ни при чем. Вздор. Хочу — могу. Хочу — стреляю. Кому какое дело? Или возьму — отравлюсь. Опять — кому какое дело? Это и есть жизнь.
Он напряженно замолчал, покраснел и махнул рукою.
— Не умею выразить. Вообще, не перевариваю. Все это одна ложь и больше ничего. Впрочем, это вышло немного не к делу. Я знаю, что виноват сам. И никто ни меня, ни тебя судить не может и не имеет права: разобраться в этом никому, кроме нас двоих, нельзя. Вот-вот… понимаешь? Ухватил. Виноват… Знаю — и баста. Руку.
Он пожал ее руку своею горячею ладонью.
По мере того, как он говорил, в углах ее глаз образовались маленькие внимательные складочки. Вероятно, она находила, что он все-таки говорит умнее, чем бы можно было от него ожидать. Когда он кончил, она вздохнула, и лицо ее опять сделалось непроницаемым.
— Шляпу можно снять? — спросила она. — Я посижу у тебя… Мне все равно некуда идти…