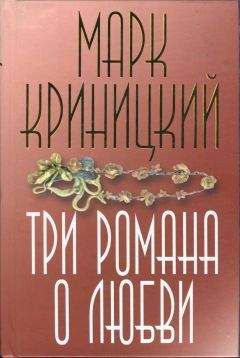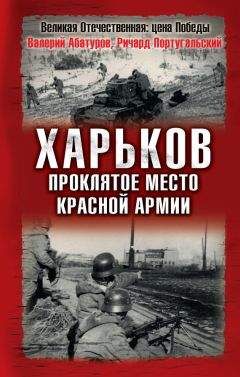И на утро чувствовала себя просто падшей, ничтожной, как все, смрадной, недостойной ни себя, ни людей, ни «его».
Чтобы окончательно спасти себя в собственных глазах, послала мужу коротенькое письмо, в котором каждая буква была ложь:
— Поражена, страдаю вместе с тобою. Успокойся: яд не опасен. Но отчего все это? Мужайся, мой бедный друг. Прости за жестокие, быть может, слова предыдущих писем. Слишком говорила своя боль.
И когда отправила это письмо, почувствовала себя еще грязнее, еще ничтожнее.
О, может быть, грубая правда была бы все-таки в сто раз святее!
Вскоре пришло и последнее письмо Дурнева. Его подали вместе с заказным пакетом, где лежали бумаги.
Это было как могильная плита.
Она перечитывала каждую букву письма:
— Будь, если можешь, как-нибудь счастлива!
Да, вот он пишет: «Это не значит, что я не люблю ее, но что-то перегорело внутри».
И что же тогда означает этот ужасный пакет? «Подписать, не читая»… Значит, там что-нибудь нестерпимо ужасное, последнее.
Нет, нет, прочесть — все от первого до последнего слова.
Она разорвала тонкую, серую бумагу, обильно обклеенную юбилейными марками.
Это ее право! Как это похоже на него: желать причинить боль так, чтобы она не почувствовалась. Но она желает боли. О, ничего другого, как страстной, разъедающей боли!
Здесь, наверное, что-нибудь унизительное… Пусть!
Еще мгновение ей было страшно. Она хочет что-то удержать. Все еще надеется на что-то. Глупая политика страуса.
Надо смотреть широко открытыми глазами. Если позор, то позор.
Она развернула бумагу с надписью:
— Частный акт.
… Что это такое? Зачем?
Дрожащими пальцами она опять аккуратно сложила бумагу и сунула ее обратно в конверт. Виски ее пылали, плечи тряслись от задержанных слез. Разве можно об этом плакать?
Она отрицательно покачала головой. Это можно только разорвать. Вот так.
Она схватила конверт. О, чудовищный, грязный, не останавливающийся ни перед какими приемами эгоизм!
Ей казалось, что муж сделал с ней что-то до последней степени гнусное и позорное. Он это мог… Если бы нужно было сделать даже еще что-нибудь более позорное, он бы сделал. Если бы это было необходимо, он пришел бы и сделал что-нибудь гадкое на глазах.
Да, но в сущности, не все ли равно, дать пощечину рукою или написать: я даю тебе пощечину?
Что это все, как не одно ужасное:
— Смотри!
Но в руках не было силы…
… И вдруг резкий вопль прорезал молчание квартиры.
На пороге стояла мать.
— Мама, я больше не могу.
Она плакала, упав головой на стол и вытянув перед собою руку с зажатым в ней и скомканным конвертом.
— Что это у тебя в руке? Дай сюда.
— Нет.
Она покачала головой.
— Не трогайте.
Желтое, грубое лицо матери сочувственно глядело на нее. Да, они, молодежь, не знают, что такое жизнь.
Но зачем, зачем так пошло и грязно?
— Мама, не успокаивайте меня.
Она отвела ее сухую руку от волос. Ей казалось, что у нее боль в каждой точке, точно все тело представляло один больной зуб.
Мать молча присела на кровать. Какою она была далекою. И не было близких.
— Шура!
— Он гуляет с няней.
— Ах, мама, если бы умереть! Вы будете заботиться о Шурике?
Та продолжала сидеть молча. Пусть разбираются они сами, как хотят.
— Да, вы правы, мама. Простите меня. Это ничего. Это пройдет.
Она встала, стараясь овладеть своими чувствами и членами.
— Ну, вот и все. Теперь оставьте меня, мне надобно заняться.
Мать продолжала сидеть, не двигаясь.
— Ты хочешь продолжать эту грязь?
— Ну, хорошо, мама, подите.
— Я напишу ему сама… и этой тоже.
Ее отвисшие щеки тряслись от гнева.
— Знала бы я, что он такой проклятый, скорее собственными бы руками задушила тебя, чем дала свое согласие. Напишу.
Она тяжело поднялась с постели.
— За что? О-о! Променять свою законную жену на какую-нибудь трепалку. От живой жены! С ума все посходили. Ну, да я по-свойски. Я — мать. С меня, моя милая, взятки гладки.
Серафима почувствовала себя задетою. На мгновение мелькнула мысль:
— Впрочем, а что если?…
Но самолюбие взяло верх. Куда же в таком случае девались ее хваленые принципы?
— Я вас прошу, мама, этого не делать.
— Нет, сделаю. Сама поеду. Нечего сказать, зятек! Да я ему всю бороду выщелушу.
— Мама!
Но руки беспомощно опускались. Хотелось кинуться ей на шею и плакать детскими, обиженными слезами.
Ее лицо смягчилось.
— Перемудрили вы. Вот что.
Она подошла и крепко прижала к своему плечу жесткою ладонью ее голову.
— Напиши ему твердо, что не можешь.
Серафима отрицательно двинула головой.
— Ах, мамочка, тут много всего. Теперь поздно. Да и все равно.
Слезы хлынули, и она билась у нее на плече, зная только одно: что непоправимое уже совершилось.
… Час спустя она торопливо подписала прошение и запаковала пакет.
— Шурик, мы пойдем с тобою сейчас на почту, — сказала она мальчику. — Мы отправим письмо папе.
Дорогой на почту он задал ей вопрос:
— Отчего, мамочка, у нас нет папы? У всех людей папа есть, а у нас, например, нету. Как странно.
— Он, Шурик, есть, только он далеко.
— Отчего?
— Ему нельзя.
— А он приедет?
Она промолчала.
— Он приедет, мамочка?
Собравшись с силами, она ответила:
— Он не приедет.
— Никогда?
— Да… Никогда…
Она нежнее и крепче сжала его ручонку. Он шел некоторое время молча, потом начал хныкать.
— Я хочу, чтобы папа приехал.
Она стиснула его руку так, что ему стало больно. Он перестал плакать и с удивлением посматривал на нее.
— Нам не нужно папы.
Она поставила его на скамейку бульвара и продолжала:
— Есть люди, у которых папа есть, а есть другие… такие, как мы, у которых папы нет.
— Отчего?
— Так уж устроено.
Но он топал нетерпеливо ножонками и кричал:
— Я хочу папы.
Она потрясла его за плечики.
— Чш… молчи, если любишь маму.
Углы губенок у него опустились, и глаза смотрели укоризненно, с мольбой и бездонным страхом.
— Я куплю тебе серого слоника. Хочешь?
— Я хочу папы.
— Ты упрямый, дурной. Разве тебе не жаль твоей мамы? Слоника, тележку, кучера… Пойдем!
Она схватила его за руку и решительно потащила за собой на почту.
— Ты хочешь слоника, который поднимает хобот и говорит так страшно: у-у!..
Ребенок улыбнулся сквозь слезы.
— Хочу!
Сдавши пакет, она написала Ивану короткое письмо:
— Все подписано, выслано. Обо мне не беспокойся. Привет твоей будущей жене.
Всю ночь она проплакала, не раздеваясь и стоя у окна, пронизанная дрожью, отчаянием, ужасом.
Шурик крепко спал. Серый слоник стоял у него в ногах — слоник, приносящий счастье детям, у которых нет папы.
Мартовские дни Лида по-прежнему встречала в кресле. Надежды на то, что действие левой ноги восстановится, были плохи, и она примирилась со своею жизнью калеки в будущем.
— Вам это только так кажется, — уверял ее Виноградов. — Вы внушаете себе, что не можете и, главное, не должны ходить. «Девице, говорю тебе, встань!»
Он поднимал ее с кресла и пробовал водить по комнате.
— Но ведь рука же прошла…
Он толковал что-то об общих нервных центрах.
— У падок жизни, сударыня, — вот что главное! Надо, чтобы ярко и властно подошла жизнь и сказала свое: «Девице, я тебе говорю, встань!». И встанете, моя дорогая, встанете.
— Сомнительно, — говорила Лида, презрительно усмехаясь.
Уж не Иван ли это, чего доброго? При мысли об Иване делалось больно. Первые вспышки болезненного восторга от возвращения к жизни прошли давно, и Иван представлялся уже давным-давно в своем настоящем свете: безвольным, запутавшимся, хотя милым и добрым, как всегда.
Он не собирался ее покидать, хотя она была уже только полчеловека.
Но ее раздражал его солидный и вместе глупый тон. Вероятно, он полагал, что теперь сделал для нее решительно все. Это сквозило из каждого его взгляда, поворота, жеста.
И вдобавок еще подобострастный тон папы. Эти люди решительно обратили ее в неживую вещь.
С тех пор, как она начала приходить в себя, ей беспрестанно давали безмолвно понять, как она должна быть всем благодарна: папе, что он взломал дверь, Виноградову, что тотчас же приехал и не спал около нее две ночи, Ивану — о! тут уже был целый клубок благодарностей…
Даже Глаша и та беспрестанно повторяла на разные лады:
— Ну, барышня, задали вы нам тревоги.
Серая, нудная жизнь вступила в свои права.
Прежде всего хотелось разобраться в Иване.