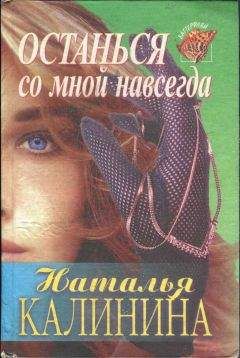Она полулежала на влажной душистой траве, опершись локтями о землю и подперев ладонью подбородок, и задумчиво улыбалась. Она смотрела на него, но в ее глазах все так же не было узнавания. Он мог поспорить, что она улыбается не ему. Полы ее широкой юбки разметались вокруг нее… Большой синий цветок посреди мокрого луга.
«Цветы не помнят того, что было с ними раньше, — подумал он. — У цветов нет прошлого, у них нет памяти. Но все равно они дышат, чувствуют и живут».
Он наклонился и протянул ей руки, чтобы помочь встать. Она даже не пошевелилась. Она лежала все в той же позе, и ее взгляд был так же неподвижен, как и ее тело, и направлен мимо него.
— Вставай, Вероника, — сказал он, забыв, что решил больше не называть ее по имени до тех пор, пока она сама не осознает, кто она такая, и дотронулся до ее плеча. — Трава мокрая.
Она слегка приподняла голову и посмотрела на него. В ее глазах он не увидел ничего, кроме своего собственного отражения. Леденящая душу тоска вдруг овладела им от этого пустого, словно стеклянного взгляда. Его пальцы судорожно сжали ее плечо. «Но ведь я знал, что так будет, — напомнил себе он, отдергивая руку. — Главное — это быть вместе…»
Она вдруг резко подалась вперед и, обхватив руками его шею, с силой потянула к себе. Он и опомниться не успел, как они оба лежали на мокрой траве. Вокруг пахло дождем, солнцем и уходящим летом. Ее длинные волосы смешались со стеблями травы. От них пахло не солнцем и не дождем, а ею.
Ее дыхание обжигало его кожу, но ее пальцы были прохладными и легкими. Они разговаривали с ним, как разговаривали прежде, и их прикосновение было для него понятнее всяких слов. Каждая его клетка рыдала от их прикосновения и упивалась ею. Он только сейчас понял, что чуть не погиб от жажды.
«Я верю в целостность материи и сознания», — вдруг пронеслось у него в голове. Эти слова были сказаны ею очень давно, наверное, вечность назад… Может ли материя помочь сознанию вспомнить?
Может или нет — какая разница? Зачем помнить, когда достаточно чувствовать? Чувствовать, ощущать, желать, дотрагиваться до нее — и знать все то, что чувствует она, и слышать музыку ее прикосновений. Он ведь и сам уже ничего не знал, кроме этой музыки, кроме запаха ее волос и вкуса ее кожи. Нет, еще он знал, как вздрагивает каждый ее нерв и как пульсирует каждая ее жилка, он знал каждый изгиб ее тела, он знал… Он знал о ней очень, очень много — того, что он знал, хватит на них обоих.
Он слышал чей-то плач и чей-то смех, но это плакали и смеялись не они — их уже не было здесь. Они были где-то очень далеко, и там, где они были, не существовало ни мыслей, ни воспоминаний, ни даже чувств — только эта бездонная пропасть ощущений и бессознательных, захватывающих радостей.
Их долго носило над самым краем бездны, они дразнили бездну, а бездна манила и пугала их. Кто-то закричал… Они окунулись в горячий поток своих радостей и растворились в нем. Их больше не было — осталась только эта радость, непостижимая и бесконечная, устремляющаяся куда-то за пределы времени…
Ее ресницы вздрагивали, как крылья бабочки под дождем… Тот, кто сказал, что у слез соленый вкус, ошибался.
— Где ты? Где ты? — шепотом звала она. — Ты ведь обещал, что останешься со мной навсегда…
Он открыл глаза и заглянул в ее мокрое от слез, невыразимо прекрасное лицо. Она медленно разомкнула веки, почувствовав его взгляд.
— Где ты? — повторила она, глядя куда-то сквозь него.
Он дотронулся до ее волос, в которых запутался луч предвечернего солнца.
— Я здесь, рядом с тобой. Неужели ты меня не видишь?
— Я тебя вижу. Я звала не тебя.
— Ты говорила мне сегодня утром, что хочешь, чтобы я всегда был рядом… Теперь ты больше этого не хочешь?
Она подняла руку и коснулась его щеки. Ее пальцы задержались на мгновение на его лице. Она улыбнулась.
— Я хочу, чтобы ты был рядом, — тихо проговорила она. — Мне с тобой очень спокойно и уютно… Но я не могу понять, почему мы с ним расстались.
— С ним?
— С ним. — Она приподнялась на локтях и отвернулась, устремив взгляд куда-то вдаль. — Ты разве его не видел? Он только что был здесь…
Констанс сидела на балконе своего роскошного люкса, лениво перелистывая журнал «Oggi»[11]. Конец октября в Риме был теплым и солнечным — чудесная погода для прогулки. Но она устала от своих одиноких прогулок. Она уже исходила вдоль и поперек весь центр Рима, побывала на всех тех улицах, по которым когда-то бродила вместе с ним… Рим был для нее чем-то вроде города-музея — но вовсе не потому, что он был полон памятников старины и всякого рода достопримечательностей. Этот город хранил память о ее любви, о днях ее счастья, безвозвратно ушедших в прошлое.
Ее муж был удивлен, когда она сказала ему, что остается в Риме, — удивлен, но вовсе не огорчен. Его вряд ли вообще могло огорчить или обрадовать что-либо, не имеющее отношение к их дочери. Да и вообще они были совершенно чужими друг другу, и двадцать пять лет совместной жизни ни в коей мере не сблизили их. Вполне возможно, что если бы у них не родилась Вероника, они бы давным-давно расстались.
Но теперь Вероника была с Габриэле, и больше ничто не связывало ее и Эмори. Продолжать жить под одной крышей не было никакого смысла. Она бы попросила Эмори дать ей развод, но сейчас у нее не было желания возвращаться в Штаты и заниматься этими формальностями. Потом, быть может, она слетает на несколько дней в Нью-Йорк, чтобы подать заявление. Она знала, что Эмори не станет возражать.
Она решила, что купит себе квартиру где-нибудь в центре Рима и обоснуется здесь. Она уже посмотрела несколько квартир, предложенных ей агентством по продаже недвижимости, в которое она обратилась, но пока не нашла ничего подходящего для себя. «Наша родина там, где мы находим наше счастье», — сказал какой-то писатель. Она могла бы взять эту фразу эпиграфом к своей жизни. Пусть ее счастье и было скоротечно, но ведь только здесь, в этом городе, она была по-настоящему счастлива. Кроме той весны, в ее жизни не было больше ничего хорошего.
Тогда, двадцать пять лет назад, она уезжала из Рима в полной уверенности, что никогда сюда не вернется. Но тогда в ней говорила обида. Потом обида улеглась, и любовь возродилась к жизни. Когда любишь, плохое быстро забываешь, помнишь только хорошее. Ну и что с того, что он ее бросил? Он наверняка бросал и других девушек — как говорится, не она первая, не она последняя. Он был тогда очень молод и не собирался связывать свою жизнь с кем бы то ни было, а она навязывала ему свою любовь, клялась в вечной верности… Именно это и отпугнуло его. Она до сих пор помнила выражение его лица, когда она сказала, что хочет навсегда остаться в Риме, чтобы быть с ним. Вскоре после этого он сказал ей, что им лучше больше не встречаться вне съемочной площадки.
Такие, как он, не созданы для вечной любви. Он всегда искал новые впечатления, ждал от жизни сюрпризов… Он бы перестал быть самим собой, если бы связал свою жизнь с какой-то одной женщиной. Сейчас она пыталась убедить себя в том, что и от Вероники он бы устал, не случись всего того, что случилось… Но где-то в глубине души она чувствовала, что это не так.
Она регулярно созванивалась с ним, чтобы узнать о состоянии дочери. Он говорил ей, что Вероника в полном порядке. Это означало, что с тех пор, как они уехали в Полинезию, ничего не изменилось ни в лучшую, ни в худшую сторону. Но ведь доктора предупреждали его об этом. Он же до сих пор был убежден в том, что Вероника рано или поздно станет прежней. Ей бы очень хотелось тоже верить в это, но она была не из тех, кто верит в чудеса.
Чувство вины перед дочерью становилось иногда настолько сильным, что ей казалось, она сойдет с ума. Она бы с радостью поменялась местами с Вероникой. Вероника не страдала оттого, что лишилась рассудка, ведь она не понимала, что больна, что в ее мозгу произошли необратимые процессы. Зато она страдала, потому что все это случилось по ее вине.
Габриэле сказал ей во время их последнего телефонного разговора, что собирается жениться на ее дочери и ждет лишь одного — когда Вероника наконец осознает, кто она такая. Не потому, что он считает ее болезнь препятствием к их браку. Но во время церемонии венчания священник обратится к Веронике по имени — и Вероника должна понимать, что он обращается к ней. Констанс хотела сказать ему, что в таком случае эта церемония венчания никогда не состоится, но предпочла промолчать. Она лишь спросила, почему он вдруг посчитал необходимым сочетаться с Вероникой законным браком, если всегда презирал условности. Он ответил, что до сих пор считает условностью гражданскую сторону брака, но только не его религиозную сторону, и что их любовь нуждается в благословении свыше — именно поэтому он придает такое большое значение венчанию.
Констанс вздохнула и снова стала машинально перелистывать страницы совершенно не интересующего ее журнала. Сейчас она сомневалась в том, что ее решение обосноваться в Риме было правильным. Что, спрашивается, она будет здесь делать? Бродить все по тем же улицам и вспоминать былое? Смешно. Ей сорок пять лет, она зрелая женщина, чтобы не сказать пожилая, а пытается убедить себя в том, что ничто не изменилось с той поры, когда ей было двадцать, что ее счастье все еще живет на улицах этого города, а в ней самой жива юная Констанс, которая хотела от жизни лишь одного — любви.