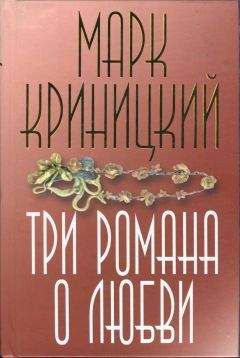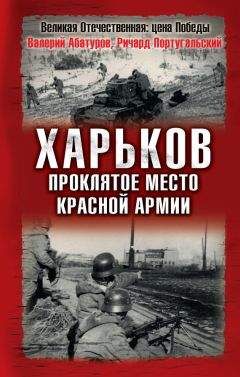— Почем знать, может быть, и во мне бы оживилось былое, теперь заглохшее чувство к тебе. Если бы я видела, так сказать, воочию доказательство…
Иван Андреевич с удивлением смотрел на нее, точно видел ее в первый раз. И он вдруг понял совершенно ясно, что она не шутит. Да, она требует от него этой, совершенно никому (за исключением только ее самой!) не нужной, сознательной жестокости с его стороны.
— Лида, — сказал он, страдая и еще не смея впустить себе в душу уверенность, что она не лжет, не шутит, — Лида, это не ты… Ты… клевещешь на себя… Да это же не может быть, чтобы ты, чистая, юная, такая милая, могла жаждать чужого несчастья, чужих страданий… например, моего ребенка, который обмирает по мне… чтобы ты вот этими самыми губами могла произнести той, другой женщине и ее ребенку этот возмутительный приговор… Нет, Лида, нет!
Он пошел к ней с протянутыми руками.
— Скажи же мне, моя дорогая, моя любовь, искренняя, настоящая…
Он остановился, чтобы взвесить правду этих слов, и ему показалось, что это пока еще так, простое недоразумение, и что он любит, любит, но она должна только улыбнуться и сказать ему, что все это было или жестокая шутка, или необдуманное желание, — и все будет поправлено.
— Скажи мне, что ты все, все понимаешь, что ты входишь в мое положение.
Она, побледнев, встала. Рот ее судорожно искривился, глаза сузились и остро блеснули.
— Ты оскорбляешь меня! — крикнула она. — Это не шутки. Довольно игры в прятки. Все равно, цветы моей любви к тебе давно убиты морозом, но если ты хочешь сохранить хоть листья, хоть корни, наконец, то ты должен прекратить эту комедию.
— Комедию, Лида?
— Да, пошлую комедию, водевиль, фарс с переодеванием… все, что хочешь. Ты обязан это прекратить. Иначе… иначе я больше не ручаюсь за себя. Я тебя попрошу меня оставить… Я ненавижу тебя…
Она посмотрела на него острым, страдающим взглядом, и он понял, что она действительно переживает. Невыносимую муку. Она была существом совершенно какой-то другой, непонятной, чуждой ему расы… да, именно — расы, для объяснения с которой у него не было ни языка, ни какой-либо другой возможности понять друг друга.
— Я тебя любила и, может быть, еще люблю… Но я тебе принесу жертву: я вырву ногтями из себя это чувство… Я тебя освобожу от себя. Я тебя забуду, успокоюсь и даже ничего не сделаю с собой… Даю слово… Я все, все сделаю для тебя… Но и ты… я прошу тебя… уйди честно… Вот сейчас уйди — и все. Пощади же меня.
Она смотрела на него такими полными сознания своей внутренней правоты, жалкими, умоляющими глазами.
— Лида! — позвал он ее сдавленным голосом, превозмогая рыдания.
— Иван! — ответила она, продолжая страдальчески глядеть на него, и решительно помотала головой, давая этим знать, что она не согласна ни на какие уступки.
Он выбежал из ее комнаты, наткнулся в гостиной на Петра Васильевича, молча протянул ему руку и, не отвечая на вопросы, чтобы окончательно не разрыдаться, тут же, наскоро оделся в передней и бросился, рыдая, на улицу.
На улице его охватил припадок гнева. Он шел, жестикулируя, останавливался, вспоминал отдельные слова Лиды, и им овладел дурной, злобный смех.
Ему казалось, что теперь он разгадал девушку. Как мог он столько обманываться? Она была черства, ограничена в своем кругозоре, словом, обыкновенная тупая, хищная мещанка.
И было окончательно странно, что он променял на нее Серафиму.
Но к Серафиме пойти не хотелось: туда надо было идти с чем-то законченным, решенным. Хотелось бежать куда-нибудь без оглядки, пережить эту боль от мучительного разочарования.
Но почему он называет ее «разочарованием»? Разве и раньше, в сущности, было не то же самое? И опять он удивлялся себе, что был так слеп. Лида всегда была одною и той же. Она никогда его не обманывала и не подавала ему надежды.
Смеркалось. Иван Андреевич шагал по грязной окраине города, куда нечувствительно забрел. Первое чувство злобы сменилось упорным раздражением. Ему не хотелось верить, что Лида могла на самом деле быть такова.
Она, прежде всего, умна. У нее, просто, дурной характер: она упряма, вспыльчива.
Иногда он останавливался и смеялся над собою. Все то вздор, опять малодушные уступки. Просто, он должен порвать с нею.
И, говоря так, он в то же время знал, что бессилен это сделать. Он может исколесить хоть целый город, и все-таки, в конце концов, вот сейчас опять вернется к ней.
Чем она так его влечет?
Он старательно представлял себе ее внешность. Ведь таких, как она, тысячи. Но вот он пойдет и будет мучиться с нею. Одна мысль, что он может не пойти, не увидеть ее, повергала его в этот странный ужас.
Она сделалась для него действительно частью его самого. Вероятно, это и есть любовь.
И опять он шел и шел. Теперь чувство к Лиде было уже неопределенным, тяжелым и темным. Ему просто хотелось делать ей больно, грубо подчинить себе. Было гадко и стыдно за себя. Это она сама сделала его таким. Он мог быть иным. Он любил ее человечно, возвышенно, даже мечтательно.
Иван Андреевич знал, что сейчас Петра Васильевича нет дома, и он застанет Лиду одну.
Он резко позвонил в парадное, но отворять не шли. Позвонил опять и так же резко.
Послышались шаги.
— Кажется, можно подождать, — сказал недовольно-враждебный голос Лиды. — Ясно, что прислуги нет.
Было смешно, что она не сомневалась, что это он, и понятно, что и она питает к нему те же чувства, что и он к ней. Они оба были два невольника, влачившие цепи, которых даже еще не успели надеть. Небрежно она отворила дверь и тотчас же ушла, предоставив ему самому затворять за собой.
Он вошел вслед за ней, но ее уже не было в передней. В комнатах было темно. Она не потрудилась даже зажечь огонь.
Иван Андреевич вдруг смутно почувствовал, что сейчас должно что-то с ними обоими произойти огромное, важное, решительное. Дрожащими руками он снял пальто, хотел пустить свет, но остановил руку на полдороге и пошел из комнаты в комнату, натыкаясь на мебель.
Лида темным силуэтом сидела у окна. Теряя самообладание, он подошел к ней, взял ее за руку и обнял за талию. Она не сопротивлялась.
И было дико схватить ее в объятия так просто, не рассуждая, в мучительном, молчаливом, почти злобном порыве. И еще более дико то, что она не сопротивлялась, так же молча и стихийно подчиняясь ему, точно в этом, таком простом, грубом, внешнем, только и заключалась развязка мучительно затянувшегося узла.
Вероятно, они оба чувствовали одно и то же и оттого молчали.
… Он вышел в соседнюю комнату. Глаза его привыкли к темноте и, кроме того, было гадко за себя и стыдно зажечь свет. Все мучения его совести, все выкладки ума разрешились так элементарно.
Он чувствовал себя падшим, уничтоженным в собственных глазах, сел в темноте на диван, мысленно прощаясь с свободным и чистым прошлым. Подумалось о Шуре, но он сделал над собой усилие не думать. Теперь все должно было пойти иначе.
Шорох и крадущиеся шаги в дверях.
— Иван, ты где?
Он слабо пошевелился, но ничего не ответил. Она подошла к нему и приласкалась.
— Отчего ты такой печальный? Ты сожалеешь, что это произошло?
— Нет, — солгал он.
— Но тогда отчего же? Ведь завтра твой развод состоится, не правда ли? Или, может быть, это затянется опять?
Она села к нему на колени и обвила его шею рукою.
Она ему была не нужна, противна более, чем когда-либо. Но все было кончено. И даже не было ужаса. Было только сознание неизбежности, пустота, апатия.
— Мне кажется, что все эти недоразумения у нас происходят оттого, — продолжала она, перебирая свободной рукой волосы в его бороде, — что мы жили с тобой ненормальной жизнью. Вот все это кончится, и Серафима Викторовна уедет. Все войдет в свою колею, и ты успокоишься.
Она продолжала еще долго говорить. Он слушал и удивлялся. Все это было так наивно, несложно в своем элементарном, грубом эгоизме, банально и мелко.
Отныне это будет его судьбой. Как честный человек, он должен исполнить по отношению к ней все дальнейшие обязательства.
И вдруг ему захотелось хоть на мгновение, но именно сейчас уйти отсюда, из этой темной квартиры, где он сидел с темной душой и нечистым телом, страдая от собственной пошлости, ничтожности и грязи.
Он осторожно поднял Лиду с своих колен.
— Но ты… счастлив? — спросила она, с глупым видом продолжая ласкаться.
Подавляя в себе брезгливость, он ответил:
— Да. Пусти же меня.
— О чем ты думаешь, Иван? Ты по-прежнему угрюм… даже теперь… после того, что я сделала для тебя.
Он скверно рассмеялся.
— Ты сделала для меня?
— Иван, что значит этот смех? Как ты груб. Я требую, чтобы ты объяснился.
— Я думаю, это обоюдно, — сказал он, пугаясь своих слов, тона, пустоты и хаоса чувств.