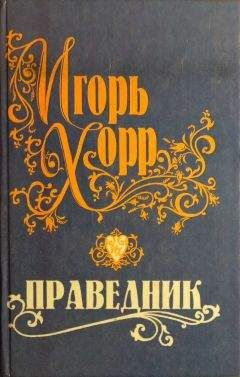На следующий день после похорон Вадима Никитовича Алексей Борисович Борин отбыл домой, в Саранск.
Жарким июльским утром по тихим и неприветливым улицам столицы Мордовской губернии промчался роскошный автомобиль, за рулем которого сидел сам Михаил Андреевич Прошин, человек очень богатый и очень известный в городе. Автомобиль этот пролетел на огромной скорости, так что, едва вписываясь в повороты и создавая опасность небольшому, к счастью, движению, в считанные минуты пересек расстояние от загородной дачи до северной окраины города и резко затормозил у дома четы Бориных. Водитель с по-детски сияющим лицом, кожаной папкой под мышкой вышел, хлопнул блестящей дверцей и, бодро взбежав по ступеням, несколько раз позвонил.
Дверь открыла Виктория Сергеевна.
— Здравствуй, Виктория. Можно? — сказал Михаил Андреевич.
— Это ты, Михаил. Здравствуй. Почему ты так звонишь? Ты напугал меня. Заходи.
— Извини. Я не сразу услышал звонок.
— Что-то случилось?
— Нет. С чего ты взяла?
— У тебя странный вид.
— Возможно. Но не волнуйся, все хорошо. Он дома?
— Дома. Он у себя.
— Как он?
— Не знаю. Трудно сказать. Молчит.
— Не болеет?
— Не жалуется. Он у себя в кабинете. Пойдем, я тебя провожу.
Алексей Борисович сидел в кресле, отвернувшись от письменного стола. Окна были занавешены. В кабинете было чисто убрано и темно. Книги, обычно раскрытые и разложенные повсюду, аккуратно стояли на полках. Нигде не было видно ни единого листочка бумаги. Пишущая машинка, накрытая красной салфеткой, покоилась в дальнем углу у окна.
Открыв дверь, Михаил Андреевич постучал.
Алексей Борисович поднял голову.
— Приветствую тебя, служитель муз! — улыбнувшись, поздоровался Прошин.
— А, это ты, — вяло сказал писатель. — Здравствуй, Михаил Андреевич. Садись.
Прошин уже не раз встречался с писателем после его возвращения из Москвы, но только теперь заметил, как изменился его давний приятель. Борода и усы его стали серебряными от седины. Щеки ввалились и приобрели нездоровый оттенок. Лысина перебралась уже за макушку. Возле глаз, печальных и влажных, темнели круги.
«Да он выглядит как старик, — подумал Михаил Андреевич. — Я не верю глазам своим. Как мог он так измениться? Нет, это, видимо, просто болезнь. Он все еще болен. Наверняка он не вылечился еще».
— А я по делу к тебе, Алексей, — усевшись на стул, прямо начал директор. — Я тут… Ну в общем, как бы тебе это объяснить… В общем, я собрал все свои стихи… Старые, которые еще с того времени сохранились, и новые… Знаешь, я ведь в последнее время много писал… Короче говоря, я собрал их вместе и собираюсь издать… Я знаю, что это смешно, но… Мне бы хотелось, чтобы ты прочел это. Здесь совсем не так много. — Прошин протянул писателю тонкую папку из черной кожи. — Я уверен, что много времени у тебя это не займет.
— Хорошо, — спокойно ответил писатель, взял папку и положил ее к себе на колени, — я прочту.
— Знаешь, никаких иллюзий у меня нет. Я никакой, конечно, не гений, но… Мне кажется, стихи эти неплохие. Ты, может, мне не поверишь, но, когда я их перечитываю, мне кажется, что не я, а кто-то другой их написал.
— Почему же, я верю. Со мной случалось такое когда-то.
— Правда? Вот ведь!..
Постучавшись, вошла Виктория Сергеевна. Она принесла на подносе чай, печенье и сладости.
— Спасибо, — воодушевленно произнес Прошин.
— На здоровье, — сказала жена писателя, опустила поднос на стол и удалилась.
Михаил Иванович взял чашечку, попробовал, подул на чай, затем другой рукой взял печенье и откусил:
— Как вкусно. Люблю домашнее. Твоя жена превосходно готовит.
Писатель кивнул, но не сказал ничего.
— Так ты прочтешь, Алексей? — опять нетерпеливо спросил Прошин.
— Да, конечно.
— Сегодня?
— Пожалуй, сегодня.
— Спасибо.
Писатель пожал плечами:
— За что?
Михаил Андреевич растерянно улыбнулся. Он чувствовал, что разговор не клеится, но уходить ему совсем не хотелось. Он отпил еще чаю, съел печенье. Лицо его выражало полное удовольствие. Он находился в состоянии того самого душевного подъема, когда с кем-то обязательно хочется поделиться собственной радостью, когда внутреннее тепло рвется наружу и обязательно хочется осчастливить кого-то возле себя.
— Да! — снова заговорил он. — Я ведь так и не сказал тебе главного. Я нашел свою Аннушку. Она живет у своих родственников в Подмосковье. Она теперь одна, этот молодой человек, с которым она уехала, оставил ее. Я написал ей письмо, и она прислала ответ. Она просит у меня прощения. Вот увидишь, она скоро вернется ко мне!
— И ты простишь ее?
— Я? — удивленно воскликнул Прошин. — Разве она в чем-то виновата передо мной? Это я виноват! Я должен буду просить у нее прощения! Ведь она такая молодая, красивая, нежная! Пять лет мы прожили вместе! И что я дал ей за эти пять лет? Что она видела за годы жизни со мной? Все время я посвящал работе. Особенно в последние годы. Я не замечал ничего! Я не мог уделить ей лишней минуты! Мне казалось, я дал ей все, но на самом деле не дал ничего! Я не дал ей главного! Я долго считал, что главное — деньги! И я добился немалых успехов, ты знаешь! Теперь многое рухнуло, но я ни о чем не жалею… Кроме, конечно… Эх, да что теперь говорить! Ты и сам все понимаешь прекрасно! Вот увидишь, она вернется, и мы будем жить совсем по-другому! Теперь все будет для нее! У нас будет настоящая семья! Она родит мне детей! Мне ведь уже внуков пора иметь, а я детей не имею. Это в мои-то годы! Я ведь все время откладывал. Мужик-то я крепкий! Я вообще не думал о детях! Только теперь задумался! Она обязательно родит мне детей! Представляешь, как это будет здорово, если у такого старого человека, как я, будут совсем маленькие дети?
— Представляю, — улыбнулся писатель. — А как же твой бизнес? — с интересом вдруг спросил он.
Михаил Андреевич рассмеялся:
— Вот это уже похоже на тебя, Алексей! Что касается бизнеса… Я точно пока не знаю. Денег у меня много. Думаю, и детям и внукам моим хватит. Да и не собираюсь я полностью отходить от дел. Конезавод, конечно, процентов на семьдесят придется свернуть. Но кое-какую прибыль он еще долго будет приносить. Кроме того, под Саратовом строится вертолетный завод. Огромное предприятие, и я один из тех, кто будет это строительство финансировать. Есть еще кое-какие мысли, так что за это можно не беспокоиться. И все это не главное. Знаешь, я многое передумал в последнее время. Я понял теперь, насколько шаток наш мир. И я понял, насколько каждому из нас нужна настоящая опора в жизни. И, кажется, я начал отличать настоящую прочную опору от призрачной, мнимой. Я проанализировал события, происшедшие за последние месяцы. Удивительное ведь дело! Все, что случилось у нас в Саранске, началось с незначительной, в общем-то, мелочи — с неудачных родов одной кобылы. Конечно, у меня нет еще стройной концепции, и я вижу, ты пока с трудом понимаешь меня, но это пока не важно… Знаешь, я задумал написать обо всем этом большую поэму. Сюжет ее уже вертится у меня в голове, и я даже придумал начало. Хочешь прочту?
— Нет. Извини, не сейчас.
— Хорошо. Я понимаю. Только прочти, пожалуйста, рукопись.
— Прочту…
В дверь кабинета снова постучали, и друзья услышали голос Виктории Сергеевны:
— Алексей, губернатор Пужайкин. К тебе.
Дмитрий Иванович Пужайкин был в парадном мундире, в сапогах и при шпаге. Его лицо светилось самодовольством, усы были лихо закручены, над лбом взымался залихватский казачий чуб. Всем своим видом он походил на полководца, только что вернувшегося победителем с тяжелой и долгой войны.
Губернатор находился явно в хорошем расположении духа. В последнее время дела его шли очень и очень неплохо. Беспорядки в губернии «малой кровью» и «своими силами» были прекращены. Почти все виновные понесли наказание. В городе и окрестностях сохранялся порядок, за что он уже получил немало поощрений от вышестоящего начальства. Возросла популярность Пужайкина как в народе, так и в светских кругах. Из Санкт-Петербурга даже дошли слухи, что Дмитрий Иванович будет представлен к одной из высших российских наград.
— Здравствуй! — входя, сказал губернатор и подал писателю руку. — Почему темно? Как дела? Как здоровье? А, вот и Михаил Андреевич здесь! Ну, разговору вашему мешать не намерен. Я ненадолго. Вот какое дело я имею к тебе, Алексей Борисович. В двух словах.
— Присаживайся, Дмитрий Иванович.
— Благодарю. Вот что. Ты вообще извини, что я тебя потревожил. У тебя неприятности, знаю. Слышал, как же. Читал о тебе всякое. Но ты не подумай, что я всем этим паршивым газетенкам верю. Ты ведь знаешь меня, Алексей Борисович. Вот и Михаил Андреевич подтвердит. Когда говорили, что ты жеребеночка нашего увезти помог, я так на тебя зол был. Так зол. А потом сел и подумал — не мог наш уважаемый Алексей Борисович такой гадости совершить. Это ж какой сволочью надо быть? Нет, понял я. Не такой Алексей Борисович человек. А стало быть, и газеты врут. И то, что сынок у тебя побочный в Москве оказался — бандит этот, — в это я сразу не поверил. Ложь! Явная ложь — и больше ничего. Я вот всех бы этих газетчиков на веревке, да на одной перекладине вместе с дружком их Супкиным! Всех! Всех перевешал бы! Кстати. Я к тебе вот по какому делу. У тебя неприятности, знаю, да ведь и нам ненамного легче. Ты ж знаешь, что тут без тебя было? Сволочь эта — Супкин — тварь финансовая! Людей взбаламутил. Передрались все. Жидов побили. Ни за что побили жидов… Народу-то ведь, ему что? Ему только глаз залей, да шепни на ухо, мол: «Хреново ты, братец, живешь. А виноват в этом кто? Власть виновата! Да жиды пархатые! Что делать? Бить!» Теперь по башке получили, одумались. Каются, вроде. А этот сбежал, сучья харя! Но ничего. Вот увидишь, поймают и повесят! Казнят как государственного преступника. А нет — сам разыщу и удавлю! Вот этими собственными руками!