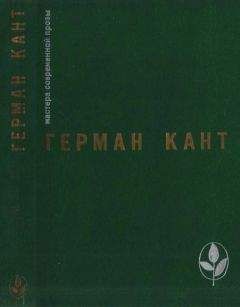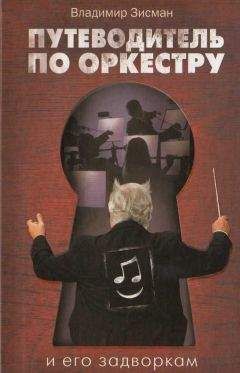- Да-да, войдите, - звонко откликнулась Алена.
Тетка дремала на диване, в ногах лежал кот. Алена с сантиметром на шее, подняла голову. Перед ней высокий человек с рюкзаком.
- Не узнаешь? - шагнул к ней, Алена смущенно протянула руки.
- Ты, отец?
- Да уж, я - отец. А ты - дочка. Ишь, взрослая, красивая, на мать похожа.
- Входи же, входи, сейчас чаю.
И рванулась на кухню, чтобы румянец с щек согнать - смутилась сильно. Угощенье поставить, принять по-человечески. Варвара Тимофеевна глаза приоткрыла, глядит с подушки строго.
- Здравствуй, тетка Варя, - поклонился вежливо.
- Здравствуй, залетный. Что пожаловал?
- Надо мне Алену от тебя ненадолго забрать, необходимость такая появилась.
- Мать знает?
- Не знает. И знать ей пока не следует.
Степан теперь чуть седоват, складки у губ резкие и не подумаешь, что он штуки всякие делать станет, а он возьми да и подмигни строгой тетке, скинул рюкзак, да и прошелся на руках, к ней подошел руку в карман сунул и яблоко достал, ей протянул.
- Вот уважил, - тетка протянула сухую в крапинку руку и взяла. К Степану она все же благоволила.
Вернулась Аленушка, застала отца сидящим в ногах у тетки с котом на коленях, улыбнулась ласково, чай пригласила пить. На столе халва, варенье, конфеты. Алена весело щебетала и про учебу и про подружек, не дичилась. Тетка помалкивала, но вроде бы доброжелательно. Но вот уже шесть часов. Степан поднялся:
- Поедем-ка мы сейчас с тобой, дочка, туда к матери на станцию, дело у меня одно есть. Только оденься теплее.
Алена встала из-за стола, не зная как поступить. Вопросительно посмотрела на тетку, можно ли? Та рукой махнула, мол, как знаешь, отец все же, не мне, старой, судить. На отца глянула тоже с вопросом. Но тот молчал. Пошла одеваться - шубка, сапожки, платок, рукавички. Тетка не перекрестила, отвернулась к стене - дремлет. Отец куртку надел, рюкзак за спину. Отправились. Вот и вокзал: касса, билеты. Жесткие сиденья, холод из тамбура и колеса стучат. А за окном темень, только огоньки фонарей на станциях, да в окошках редких домов. Холодно. Пар изо рта. Говорить вроде бы не о чем ведь один знает все, другая - ничего... А как посвятить во что-то, чему, кажется, слов нет. Но что же задумал этот человек? Странное, а может, преступное? Но мне не влезть в его душу, я же не скитался с ним по стране, не раздирала мне душу тоска по такой милой, славной и понятной Ане. Не мне приходилось вместо пера жар-птицы постоянно видеть холодные казенные общаги и низкие потолки бытовок. Видно, был свой задор. А откуда у такого вроде бы простака быстроглазого веселого циркача Степана неизбывная тоска? И этого я не знаю, вижу только, что привез он дочку на станцию и имеет что-то на душе, вроде бы все на карту поставил. Кажется, в своих скитаниях хотел дойти до какой-то черты - верхней или низшей. До чего-то, кажется, дошел... Ничего за свои 35 лет не нажил, так и бродит с пустым рюкзаком. А к Ане нельзя. Не велено. Ну, нельзя же о любви вслух... Вот на руки бы взял, покачал, как ребенка, но как заколдовал кто - мотайся по свету и мотайся. Ну, прямо как Вечный Жид. А как Ане - жене такое объяснишь? Вот и нельзя к ней. Но ведь можно остановиться. Умереть. Не нужно ее бояться - смерть так смерть! А зачем дочка, а, Степан? На этот вопрос, мне, постороннему, он, конечно, не ответит. Но я догадываюсь - проститься, поговорить... "Надо же поговорить, - как писал Георгий Иванов, - перед тем, как умереть". Но ведь это жестоко. Не надо бы втягивать девочку. Жестоко, да. Но жестокость в Степане была и есть, но и боль есть. Там, где он был, пел один бродяга: "Бог засеял три поля - тоскою, страхом, любовью - все взошли болью". Итак, действие происходит на кладбище, как в балладе. Я подхожу ближе.
- И решил я, Аленушка, что не хочу жить больше, не желаю, - кажется, доносятся до меня эти слова. - Ты уж прости меня. Росла ты без меня, а пришел к тебе. Знаешь, очень нехорош я был все эти годы. Как былинка на ветру - куда качнет, туда и гнулся... Намаялись бы вы со мной... Аннушку теперь тебе беречь. Она - душа... И музыка в ней. Береги, Алена.
Аленушка девочка послушная, смирная, простая. Никто никогда с ней так не говорил. И что же ей делать? Я стою уже совсем близко, они меня еще не видят, греют руки. И говорит Алена отцу.
- Я не знаю...
Настойчиво позвонили в дверь, Ирина вздрогнула - как-то вдруг захватила эта незамысловатая история, чем-то зацепил Саша.
- Кто там?
- Это из ДЭЗа, откройте.
Ирина открыла дверь нехотя - не любила всех этих теток из жэков, контор.
- У вас долг за квартиру, распишитесь, что обязуетесь заплатить проценты, - протягивает какую-то бумажку с печатью.
Ирина смотрит на нее во все глаза, кажется, это Васина Надя, но почему она так странно себя ведет, будто и не разговаривала с ней, Ириной, о личном, неужели так меняет человека ощущение, что он "при исполнении", а может, это и не Надя, просто тоже такое испитое, странное лицо совсем у другой женщины. Ирина автоматически расписалась, все думая о странной посетительнице, а та вдруг улыбнулась (у нее не хватало, оказывается, двух зубов) и спросила застенчиво.
- А вы меня что же, не узнали? Я ведь Надя. Вот к вам в ДЭЗ устроилась. С сегодняшнего дня. Я думала, чаем угостите, как знакомую, я от Васи слышала, что вы добрая, - и опять улыбнулась как-то криво и болезненно.
Ирина отступила, показала рукой, проходите, мол, но стало ей не по себе: "Достоевщина какая-то, дурновкусие...". Надя цепко оглядела комнату.
- А небогато у вас.
Ирина пожала плечами, включила чайник, бросила пакетик в чашку, подумала - и во вторую (чтоб не обидеть гордостью), выложила в вазочку печенье.
- Садитесь, Надя.
Та села, вытянула длинные красивые ноги. "На Гурченко чем-то похожа", - вскользь подумала Ирина, разлила кипяток по чашкам, придвинула к Наде поближе сахарницу. Повисло молчание. Надя молча болтала ложечкой в чашке, Ирина молча прихлебывала горячий чай маленькими глотками. Опять позвонили в дверь. Ирина пошла открывать - за дверью стояла та, толстая неопрятная "гаражная" тетка.
- Извините, не у вас ли задержалась наша сотрудница? - почти оттеснив Ирину, она проникла в комнату.
"Что они все что ли спьяну в этот ДЭЗ устроились? - подумала уныло Ирина, - и я-то им зачем?"
- Что, Надя? Разве мы так договаривались? - строго спросила тетка Надю.
Та покорно поднялась, невнятно бросила Ирине "Извините" и пошла к двери, держа в руке дэзовскую бумажонку, за ней поспешила тетка. Ирина закрыла за ними дверь. "Как наваждение. Может, их и не было, а все расстроенные нервы, ну прямо, как у героев Достоевского?" Но на столе вторая чашка, надкусанное печенье. "Кто-то был, Надя, не Надя, неважно, но похоже их похмельные галлюцинации становятся моей явью. Только как же это бывает?" Ирина допила свой чай, вымыла Надину чашку, выкурила сигарету в каком-то полузабытьи, вернулась к рукописи:
" - ...что мне тебе сказать, что сделать. Я смерти боюсь... Я тебя ведь не знаю, но ты - папа и я тебя слушаюсь и... и люблю, - слезы уже у нее на глазах:
- Что мне нужно делать? И зачем мы на кладбище? Пойдем лучше к маме, пойдем, а? Все ты ей расскажешь. Наверное, так будет лучше, - слезы уже в три ручья.
И вот я тоже протягиваю руки:
- Можно и мне погреться, путнику? - смотрю на них сквозь уже запотевшие очки и вижу расплывчато, как сквозь слезы.
Но плачут они, плачут оба и значит, и меня видят нечетко, "как сквозь мутное стекло" - на этом месте Ирина поморщилась: слишком многие стали эксплуатировать - затерлось, потом решила, что Сашка писал это давно, да и плевать ему было, что затерлось, если на месте у него, кстати.
"Все мы в тумане друг для друга..."
- Грейтесь, грейтесь, - говорит Степан.
- Грейтесь, грейтесь, - повторяет Алена."
"И здесь какой-то надрыв, юродство", - подумала Ирина с некоторым неудовольствием, но желание понять, как Саша развяжет весь это узел пересилило и она вновь уткнулась в текст.
"Греюсь и думаю, чего же я хочу, зачем вмешиваюсь. Да, это неестественная ситуация, но они - свои, отец - дочь. Я? Посторонний. Покой юности уже нарушен - Алене сейчас никуда не убежать, а ему, кажется, не отказаться от своей идеи. Может быть, мне и хотелось бы убежать на станцию, забарабанить в окошко к придремавшей Аннушке, требуя билет до Москвы. Но и я, как и они оба, уже ничего (пока!) не могу изменить. Степан смотрит на меня выжидающе, скоро ли уйду, а он приступит. Как, собственно, он решил это осуществить? Ну, это пустое любопытство - в любом случае напугает девочку. А это - зло. Не хочу зла.
- Стоп, - говорю я им строго, протирая очки, - утрите слезы. Степан, ты хочешь смерти? Но ты же знаешь, что волен в ней один Бог, не смущай дочку. Ты, Аленушка, еще и не жила, неопытна. Вы сейчас слишком запутались, друг от друга вам не отойти, не разрешив задачу (Достоевского, мы с тобой, Степан, читали!), а я, посторонний, пригожусь, помогу. Я примету знаю или, пожалуй, точнее, способ, как развязать порочный узел. Если встать прямо под звездой, висящей над кладбищем, и взглянуть вправо от себя, то увидишь могилу без креста. Так вот, нужно до того, как погаснет звезда, сделать крест и поставить. Тогда отойдет страшное искушение! Путь станет виден. Втроем, думаю, одолеем, а если нет, то ты, Степан, что задумал, сделать успеешь, это-то от тебя не уйдет."