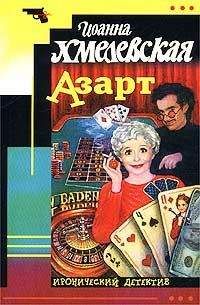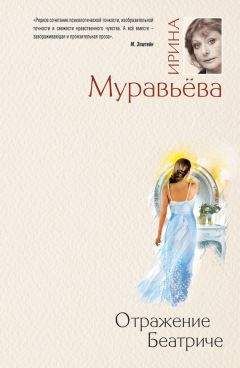Она не одна. Рядом две работницы, черные и вульгарные. И двое мужчин. Один пожилой, другой моложе. У них разбойничьи лица, с хищными профилями, худые, безбородые; бронзовые щеки, горячие глаза. Они все четверо что-то громко, быстро говорят и весело смеются. Но она молчит. И даже не улыбается. Она смотрит прямо на Штейнбаха. С ожиданием. С тайным вопросом, полуоткрыв розовые губы.
«Он их целовал…»
Они уже рядом. Штейнбах поднимает голову и видит ее. А! Дрогнуло его лицо. На один миг, правда. Но оно дрогнуло. Ресницы опустились, и головой он сделал чуть заметный знак, как это делают люди, связанные тайной.
— Ваша знакомая! — наивно говорит фрау Кеслер. — Почему она отвернулась? Смотрите, как она покраснела!
Он отвечает сквозь зубы, не поднимая век, глядя на дно чашки, из которой он пьет медленными глотками:
— Не обращайте на нас их внимания, фрау Кеслер! Она мне жаловалась, что у нее ревнивый муж.
Отошли и стали в стороне. Но близко. Теперь Штейнбах к ней спиною. Мане видны все ее жесты и выражение лица. Она смеется. Как звонко! Но это деланный смех. Она им зовет его. Оглянется ли он? Что он чувствует?
Нет. Он сидит спокойно, слегка сгорбившись. В его бровях и взгляде что-то насторожилось. Но жесты усталые, как всегда.
И Маня тоже начинает смеяться. Истерическими нотками, злыми и отчаянными, искрится ее голос Щеки ее вдруг загораются Она что-то начинает рассказывать Штейнбаху. Глаза ее засверкали. Надменные, угрожающие, умоляющие глаза. Кокетливо, шутливо касается она рукой плеча Штейнбаха. Показывает ему кого-то в толпе. Нетерпеливо бьет его по руке перчаткой. Она нарочно подчеркивает свою нему близость. «Совсем прежняя Маня, — с удивлением думает фрау Кеслер. — И какая хорошенькая!»
Штейнбах внимательно приглядывается, вкрадчиво подает реплики.
Рыжая женщина перестала смеяться. Она как будто только сейчас заметила Маню, ее близость к Штейнбаху, ее юность. Растерянно поднялись ее брови. Она что-то рассеянно отвечает подруге. Та переспрашивает. Нет, как досадливо она двинула плечом!
Вот она опять идет мимо.
Маня вдруг перестает смеяться. Даже не окончила фразы.
Штейнбах, не оглядываясь, чувствует близость той, другой, за своей спиною. Нервы его напряглись. Он глядит в лицо Мани, сам неподвижен, как изваяние. И ясно видит ее яркий режущий взгляд. Ее рот, надменно сомкнувшийся.
Так вот что! Он опускает голову. Спокойно с виду покусывает ручку трости. Но сердце его стучит.
— Хотите еще чего-нибудь? — спрашивает он, встрепенувшись. И даже голос его изменился.
— Нет! Надоело сидеть, — говорит фрау Кеслер.
— Prego, pegare! — бросает он проходящему гарсону.
Эта минута, пока гарсон пишет счет и Штейнбах расплачивается, кажется бесконечной и ему и ей.
Она перешла на другую сторону. И опять стоит в Десяти шагах. Голоса ее спутников заглушают музыку. Наверно, глядит на него. Опять смеется? Мане нельзя повернуться лицом к ней.
Это значит выдать себя. С головой выдать.
Она встает внезапно и берет его под руку.
— Пойдем скорей! — говорит она, задыхаясь.
Он хочет повернуть назад. Но она с необычайной силой тянет его навстречу той. Как тесно прильнула она к нему! «Дрожит вся? Бедненькая. Так неужели…» Вот они рядом, друг против друга. Их платья Касаются, так близко проходит Маня. Она глядит в это белое, нежное лицо, которое доставило ей столько страданий, столько бессонных ночей! Хочется запомнить все линии, разрез серо-голубых глаз, выгиб уст — все очарование этого лица, которое пленило Штейнбаха, заставило его обмануть, изменить любви, втоптать в грязь ее душу, разбить ее иллюзии. Навсегда запомнить. Зачем? Ах, чтоб уж никогда-никогда не верить! Никогда не отдавать души. Не знать унижения. Не плакать. Чтоб искать свое счастие и свою силу в другом!
Штейнбах идет мимо своей медленной, вкрадчивой походкой. Лицо его бесстрастно. Глаза холодно глядят поверх головы с рыжими пышными кудрями на колонны Прокурации.
— Как хороша, как горда! — говорит фрау Кес-лер, улыбаясь рыжей женщине.
Маня хотела бы сделать торжествующее лицо. Хотела бы бросить звонкую фразу и беспечно засмеяться. Но глаза ее полны страха перед красотой этой простолюдинки. И губы ее, вместо улыбки, застывают в страдальческой гримасе.
— Мы можем выехать завтра, Марк? — спрашивает Маня.
Она лежит одетая на софе, с пледом на ногах. Ее знобит, хотя камин топят с утра, а на небе весеннее солнце. Глаза ее ввалились. Губы высохли.
— Но как же мы уедем, когда ты больна?
— Я здесь никогда не поправлюсь.
Фрау Кеслер говорит ему тихонько в коридоре.
— Она опять не спала всю ночь. Прислушивалась к чему-то, бродила, плакала… и… писала… кажется…
— Что такое?
— Она писала, Я слышала шелест бумаги, скрип пера.
— Письмо?!
— Н-не знаю… Должно быть… Они молча глядят друг на друга.
После завтрака Штейнбах с напряженной улыбкой говорит:
— Одевайтесь! Прокатимся в город! Погода чудная. Я уже взял билеты, и завтра мы выезжаем во Флоренцию. Купим себе на память о Венеции безделушек.
— Вот и прекрасно! Ну, улыбнись же, дитя мое! — На Мерчериа, среди шумной толпы жителей и туристов, они стоят перед витринами.
— Маня, что тебе хотелось бы на память. Выбирай, — говорит он.
В его жестах и лице, сквозь привычную выдержку, проскальзывает какая-то тревога, нервность.
Маня видит за стеклом картину: синяя ночь и черный силуэт Дворца Дожей. Та самая, что пленяла ее в детстве. И в такую ночь, у этого Дворца, она вдруг упала с неба, и душа ее разбилась.
— Агата, купи мне эту картину, — говорит она сухо и твердо. — Я повешу ее над своей головой, как другие вешают икону.
— Ты так любишь Венецию? Зачем же мы уезжаем отсюда?
Не отвечая ей, Маня входит в магазин. Она спрашивает открытки. Перед нею раскрывают картоны. И она все забывает. Воспоминания обступили ее.
— А где Марк? — через полчаса вспоминает она.
— Кажется рядом, в магазине мозаик. Он ищет Цепочку для Сони.
А Штейнбах в эту минуту читает последнюю страницу ее дневника.
Он нашел его в старом ларце. Нашел без труда. Маня ничего не подозревает, да и ключа нет в старой Мебели. О, с каким трепетом взбегал он по этой Лестнице! Входил в эту комнату, где она опять плачет каждую ночь. Как вор, выдвигал он ящики, раскрывал картоны и чемоданы, ища письмо… письмо… К кому?.. Конечно, к Нелидову.
И вот теперь он знает все. Последняя страница дочитана. Тайна Мани раскрыта.
«Пройдет мимо чужая женщина с золотили волосами. Шутя выдернет нижнюю карту. И рухнет все… и…»
Дальше пятна слез.
Сердце стучит бурно и больно, пока он осторожно и ловко, стараясь припомнить, как и где что лежало, прячет тетрадку и закрывает ее скромными батистовыми рубашками и подштопанными заботливой Агатой черными чулками.
Теперь скорей, скорей туда! Успеть забежать в магазин, купить что-нибудь, усыпить ее подозрения, ее ревность.
— Скорей, Томмазо! Скорей! — говорит он гондольеру.
Радоваться или нет этому взрыву ревности? Победа это или поражение? В его душе такой хаос! Вспоминаются мелочи: ее недомолвки, загадочное отчуждение, страдания ее. Опять встает в памяти вчерашняя встреча. И этот шепот ее. И эти полные отчаяния глаза. На мгновение бурная радость перехватывает дыхание. Радость дикая, стихийная, в которой тонут раскаяние и страх. Так вот как поняла она его исчезновение в ту ночь, после Телеграммы. Совпадение странное. О, как далек был он именно тогда от чувственного бреда, от обаяния женщины с золотыми волосами! Но разве она поверит? Пусть… О Нелидове ни намека! Это главное. Ведь этого она не простит.
На площади, под часами, он сталкивается с ними лицом к лицу.
— Откуда вы, Марк Александрович?
— Я забыл деньги. Такая глупость!
— Как вы бледны! Вы больны? Маня пронзительно глядит на него.
— Пойдем скорей! Я здесь видел старинные цепочки.
ДНЕВНИК МАНИ
25 января. Венеция
Завтра мы уезжаем, и я никогда больше не увижу тебя, Лоренцо… Но я унесу с собой на всю жизнь память о нашей встрече. Ты дал мне так много! Знаешь ли об этом ты, недоступный печали и слезам?
Я была мертвая, когда входила в твои дом. У мня била маленькая душа. Меньше кольца на твоей чудной руке, которую я поцелую сейчас. Поцелую в последний раз. И здесь я проснулась. Жалкая нищая на большой дороге жизни.
Я плакала перед тобой, молчаливый друг. И эти слезы смывали грязь и пиль с моей растоптанной души. В твое лицо глядела я часами. В твои глаза погружалась я взглядом, ища разгадку твоей улыбки, твоего презрения к людям, твоей гордости. Ты знал, чего хотел. Ты знал, куда идти. Ты знал себе цену. И в твоем лице я не нашла смирения. Ты не учил меня покоряться, мириться на малом. С благодарностью принять от жизни объедки, которые она нам швыряет. Ты сам боролся с нею за свои желания. И вырывал у нее силой приз, который слабим не достанется никогда. Дитя далекой, безвозвратной эпохи — ты близок моей мятежной душе! Ты любил радость, я это вижу по твоим губам. Но в чем черпал ты силы и гордость? Почему не боялся смерти? У тебя не было веры. Я это знаю. Но что же тогда сделало тебя таким неуязвимым? О, если бы ты мог заговорить.