— Ты в ночной рубашке? Или я сошел с ума?
Беверли взглянула на рубашку, будто видела это одеяние впервые. Грудь была хорошо видна сквозь полупрозрачный батист, соски ярко розовели под белой тканью.
— Я слишком плохо себя чувствовала, — сказала она. — Да и какая разница? Никто не заметит. Вот увидишь.
— Наверное, лучше надеть пальто, — нервно сказал Йен.
— Не смеши. Всем плевать. Смотри, никто и глазом не моргнул.
— Дело не в этом.
— А в чем?
— Ты… Ты… — Он не мог продолжать. — Ты не одета! — выдавил он наконец, украдкой оглядывая ресторан.
— Ночные рубашки сейчас носят повсюду, — отметила она. — Я-то знаю, у меня муж занимается модами.
— Но не такие же.
— Ну, значит, я основываю новое направление. Питер будет доволен.
— Беверли, я тебя умоляю, надень пальто.
— Не надену. Здесь жарко.
Йен закурил ментоловую сигарету и с плохо скрываемым гневом быстро затягивался.
— Я преподам тебе пример, — сказала Беверли, наслаждаясь остротой ситуации. — Я спрошу пару слева, заметили ли они что-нибудь необычное.
— Ничего подобного ты не сделаешь!
— Извините, скажите, я необычно выгляжу? — повернулась Беверли к паре слева.
Они без интереса посмотрели на нее, а мужчина сказал:
— Все равно спасибо, дорогая. Но грудь меня не волнует. Коленки — вот что главное.
Женщина просто пожала плечами и продолжала есть десерт.
— Видишь? — победно произнесла Беверли. — Я же говорила, всем наплевать.
— Мне нет.
— Потому что ты до одури консервативен.
— Все видят твою грудь, глупая.
— Ну и что? Им все равно.
— Абсолютная нелепость.
— Это ты нелеп. Именно ты развел бурю в стакане воды из-за пустяков.
Он бросил окурок, закурил другую сигарету и прошипел:
— Для меня это не пустяки!
Впервые после пробуждения ей стало легче. Смех побеждает все. В этом ее главная беда, решила Беверли. Она всегда мрачная, плаксивая, надо научиться видеть смешное в жизни. Может, этот случай с Йеном перевернет ее мировоззрение.
— Коленки, — сказал мужчина. — Это точно.
— Беверли, пожалуйста, — сказал Йен.
— Без сахара. — Официант поставил перед ней виски.
Беверли повернулась к Йену.
— Чем таким важным ты занят сегодня днем, что мы не можем трахнуться?
— Надо набрать новых участников.
«Загадка». Жуткое шоу. Однажды Беверли смотрела его пять минут, содрогаясь от участников, у которых было высшее образование. Йен говорил, что высокий рейтинг шоу объясняется тем, что все матери страны могут увидеть еще более тупых людей, чем их дети.
— Да, — сказал Йен, — надо набирать новых болванов.
— Это важнее, чем переспать со мной?
— Многие идиоты не хотят больше участвовать, потому что их публично унижают.
— Мы говорим о разных вещах.
— Диплом они получили не для того, чтобы телевидение делало из них дураков.
— Займись любовью, а не дураками.
Йен, кажется, только сейчас ее услышал.
— Извини, дорогая, но сегодня об этом не может быть и речи.
Беверли отхлебнула.
— Анита Шулер пару месяцев тому назад сделала аборт.
— Что?
— Да. Мне Симона сказала. Операция.
— Есть способ получше, — сказал человек слева. — Его применяют в Китае, и там это стоит всего десять центов.
Мало того, что шея будет болеть, так еще приходится обедать в одной компании с незнакомцами.
— Это тот пилот, за которым она гонялась зимой? — спросил Йен.
— Эта задница. А Фингерхуд летал с ней в Сан-Хуан. И ей даже не давали наркоза. Симона сказала, что ей только вкололи новокаин, сам знаешь куда. Так что она кричала двадцать минут.
— Высасывающая машинка, — сказал мужчина слева. — Работает, как пылесос. И просто высасывает зародыш.
— Это очень интересно, — сказала Беверли, — но мы бы хотели поговорить вдвоем. Если вы не против.
— Десять центов в Китае. Спорю, что с вашей подруги содрали пять сотен.
— Четыреста пятьдесят. Фингерхуд сторговался.
— Так и надо с этими пуэрториканскими живодерами. Ты должен торговаться, иначе ничего не получишь.
Питер не позволил бы чужакам вмешиваться в их разговор, подумала Беверли, мечтая, чтобы Йен не был слабым, но тут же спохватилась: ведь это она не оставляет ему выбора.
— Пожалуйста, не говори Аните, что я рассказала тебе об аборте, — сказала Беверли. — Она умоляла Симону, чтобы та не болтала.
— Обещаю.
Пара слева наконец-то встала. Мужчина сказал Беверли:
— Грудь не важна, дорогая. Поверьте, я знаю.
— Приятно было пообедать с вами. Но повторять мы не будем.
Женщина просто улыбнулась ей, и они ушли.
— Очаровательная пара, — скривился Йен. — Посмотрим меню?
После обеда Йен посадил Беверли в такси и сказал, что позвонит позже.
— Зачем? — спросила Беверли.
— Просто узнать, как ты себя чувствуешь.
— Я знаю, как я себя буду чувствовать. Еще паршивее, чем сейчас.
— Не отчаивайся, дорогая. Завтра вторник.
— Наш день. — Беверли послала ему воздушный поцелуй из окна машины. — В галерею Лео Кастелли на Семьдесят седьмой, — сказала она водителю. — И не спешите, я не тороплюсь.
— А я тороплюсь. Я работаю. Где на Семьдесят седьмой?
— Между Пятой авеню и Мэдисон. Хотите кое-что узнать?
— Не очень.
— В Нью-Йорке трудно трахнуться.
Когда Беверли приехала в галерею, там кроме Кастелли и Ивана Карпа был только один человек в вельветовом костюме. У него были большие черные усы, и он углубленно созерцал диптих, изображавший Джона Пейна и Кармен Миранду, сидевших верхом на лошадях. Картины слегка озадачили Беверли, потому что бананы и апельсины были на голове у Джона Пейна, а не на голове Кармен, но, будучи завсегдатаем галерей, она знала, что никогда нельзя подавать вида, что ты ошарашен. Да и почему бы им не быть на голове у Джона Пейна? Какая разница? Она повернулась к усачу.
— Бодлер говорил: «Жизнь — это больница, в которой каждый пациент отчаянно хочет поменять койку».
Мужчина бесстрастно посмотрел на нее.
— Как вы думаете, где вы находитесь? В «Модерне»?
Беверли скрыла, что ничего не поняла.
— Чья это выставка?
— Моя.
— А! А кто вы?
— Стив Омаха.
— Рада познакомиться. Я Беверли Нортроп. Я так понимаю, вы знаете способ, как довести женщину до оргазма.
В эту секунду ей показалось, что у него сейчас отвалятся усы.
— Погодите. Как, вы сказали, вас зовут?
— Беверли Нортроп. Я подруга Симоны. Я удивлена, что она не говорила вам обо мне.
— Нортроп. Нортроп. А, да, вы та сумасшедшая леди с буферами!
— Она меня называет сумасшедшей?
— Кажется, я сболтнул лишнее.
Стив Омаха сунул руки в карманы.
— Как вам моя выставка?
— Очень необычно.
Бетти Хаттон и Эдди Бракен на лошадях. На другой картине на лошадях сидели Вера Хруба Ралстон и Джон Карролл. Верхом были и Джордж Брент с Мерл Оберон.
— Я понимаю, что задаю глупый вопрос, — сказала Беверли. — Но почему все верхом?
— Вы были правы. Дурацкий вопрос.
У Мерл Оберон были усы Стива Омахи, но после картин Розенквиста, Раушенберга и Олденбурга Беверли уже ничему не удивлялась. Завершали выставку Ивон де Карло и Турхан Бей. Рядом с портретами Джона Пейна, Кармен Миранды и Джорджа Брента висели красные звезды.
— Вы их продаете? — спросили Беверли. — Или это просто выставка?
— Попробуйте купить и узнаете.
Блестящая мысль. Если Питер завел сраных попугаев, у нее на стене может висеть Джордж Брент (или Джон Пейн). Любой из них будет хорошо контрастировать с пейзажем Халтберга. Беверли распирало от цитат. Столько лет не зря ездила по вторникам в галереи из Гарден-Сити! Она тогда читала путеводитель, в котором говорилось, что сюрреалистическая живопись так же красива, как сочетание зонтика со швейной машинкой на анатомическом столе.
— Я действительно хочу купить одну из ваших картин. Завтра я переговорю с Лео.
— А почему не сейчас?
— У меня очень болит голова. В таком состоянии я не хочу обсуждать денежные вопросы. Но я действительно заинтересовалась вашими работами.
— Хорошо. Смотрите, кто пришел на ужин!
Это была Симона в том же черном дождевике, который был на ней, когда Беверли заметила ее в вестибюле отеля «Мария Кристина» в Мексико-Сити.
— Что ты здесь делаешь? — спросила Симона.
— Хочу подцепить твоего красавчика, но не очень в этом преуспела.
Симона и Стив счастливо улыбнулись друг другу.
— Стив — не Роберт Фингерхуд в той квартире, — сказала Симона. — Этот номер не пройдет.
— У меня давно никого не было. Ты не знаешь, каково мне. Я только что обедала с Йеном. Я хотела переспать с ним, но ему нужно искать новых болванов для своего шоу. Такие дела.
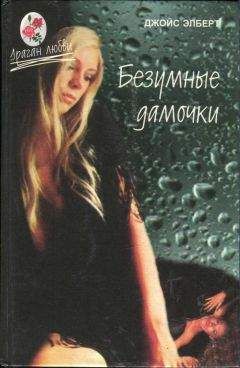
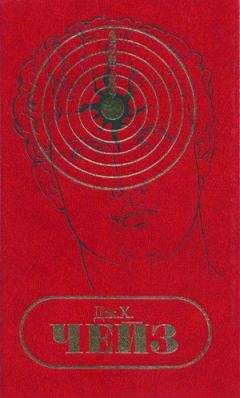

![Роберт Сальваторе - Серебряные стрелы [Серебряные потоки]](https://cdn.my-library.info/books/63242/63242.jpg)

