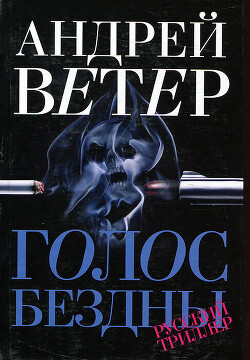коллегам не хожу, потому что засмеют. А тебя не стесняюсь, ты мне как дочь.
– Эдипов комплекс наоборот…
– Фу, Лиза, – хихикнул главный врач. – Ты такая утонченная, провинциально чистая, а можешь так… хи-хи… шутить…
– Ох, гражданин начальник, что вы знаете о провинции? Мои родители на заводе отпахали с юности до пенсии, а денег вечно не хватало до получки. У нас дома не было ни одной красивой вещи, все топорное, потертое, поцарапанное. Они спали на продавленном диване, а я на раскладушке, которая провисала до пола. Пахло клопами и плесенью. Даже книг у нас не было, кроме учебников.
– Я всегда тебе говорил, что ты гениальная девочка! Из простой семьи, а смогла поступить в университет и закончить на отлично!
– Не подхалимствуйте. Вы видели мой диплом, у меня даже тройка есть. Правда, по инженерной психологии – выучить эту муть невозможно. А поступила, потому что соседка со мной занималась, известная вам Фаня Леоновна.
– Да, старушенция мощная! Передавай ей привет, если будешь звонить.
Лиза посмотрела в окно и сухо сказала:
– Она умерла три года назад. В доме престарелых. Сеанс окончен, гражданин начальник. Пора домой.
Оставшись в кабинете одна, Лиза зажгла сигарету и подошла к окну. Как хорошо, когда окна выходят в парк, пусть на них и решетки. Деревья лучше домов – каждое из них выглядит по-своему, каждое прекрасно, даже искривленное и засохшее. Почему в самом деле ей так часто снятся кошмары? И только изредка, как подарок, приходят теплые, добрые сны. Один из них она видела сегодня. Она была птицей и летела над широкой рекой. В ней отражалось небо, и вода в реке была небесного голубого цвета. На берегах росли ивы и алые цветы. Она летела все дальше, на восток, через луга алых цветов, окруженные лесами высоких деревьев, похожих на сосны, но более густыми. Их пышные ветки, как опахала, качались от легкого теплого ветра. Впереди текла на юг другая широкая река. Вода в ней была цвета весенней долины – светло-зеленой… Лиза смеялась, и пела во сне, и поднималась все выше над долиной, устремляясь к югу, туда, где на горизонте синела длинная полоса моря…
В Норе темно. Рука скользит по гладкому дереву. Оно сладковатое и немножко свистит. Приятно пахнет старыми нитками. Вот они, в уголке. Одна, две, три. Если намотать нитку на палец, пальцу станет тепло. Одна. Две. Три. И размотать. Одна. Две. Три. И положить в уголок. Ключик… ключик от Дома. Он тут, спрятан в щели между стенками Норы.
Если качнуть головой, в темноте вспыхнет искорка. Надо качать головой быстро-быстро. Закрыть глаза пальцами. Много-много точек. Они все ярче. Они летят. Они сияют. Плывут кольца света. Как будто бросили в темную воду фонарик. Нет, это не вода. Это по черному небу летят золотые звезды. Красные звезды… Белые звезды… Но что это за шум? Это… может быть… Зажмурить глаза, заткнуть уши. Поздно. Оно тут. Оно трещит. Больно в ушах. Белое пламя бьет в глаза… Как больно в голове… Не трогайте меня! Неее тро… ооо…
Для красивой женщины старость наступает в тот день, когда мужчины перестают на нее смотреть. Лана Васильевна поняла, что состарилась, в трамвае, по дороге домой из спортивного клуба на Петроградской стороне, где она последнее время занималась модным «дамским балетом». Кроссовки вполне заменяли пуанты, а платье можно было надевать любое – стесняться было некого. Балерины, полные, неуклюжие, с отечными коленями и бесформенными талиями, грациозно поднимали обвисшие руки и слегка подпрыгивали под музыку, любуясь в зеркала на свои тяжелые тела в розовых и голубых газовых юбочках. На их фоне Лана Васильевна смотрелась девушкой – тонкая, с длинными ногами, с прямой гладкой шеей. Она одевалась со вкусом, как настоящая дама. Брючные костюмы хорошего покроя, шелковые блузки, на носу очки в тонкой позолоченной оправе. Следить за собой Лана привыкла с ранней молодости, когда все было дефицитом и она сама готовила маски из огурцов, отвара ромашки и овсяных хлопьев. И теперь она не покупала химических кремов, а делала собственные, из пчелиного воска и ланолина. Она не умывалась по утрам, только слегка дотрагивалась до глаз влажной салфеткой. Вода сушит кожу, могут появиться морщинки. А этого допускать нельзя, особенно теперь, когда она стала одинокой женщиной. После ухода Сергея она столько плакала, что под глазами легли синие тени. Они не развелись, но уже давно не виделись и не разговаривали. Только раз, когда умерла Ланина мать, он позвонил и выразил соболезнование. И сразу повесил трубку.
В тот вечер в трамвае рядом с ней села толстая девица лет семнадцати, с прыщами на лбу и бесцветными глазками. От нее пахло потом. Лана Васильевна с удовлетворением отметила, что она выглядит несравнимо лучше этой неопрятной пышки. Ланины густые и ровно окрашенные волосы были тщательно уложены, зеленые глаза слегка подкрашены. На Садовой в вагон вошли двое мужчин среднего возраста, хорошо одетых и немного навеселе. Они уселись напротив и стали шутить и перемигиваться, разглядывая толстушку с явным удовольствием и не обращая на Лану ни малейшего внимания. С презрительным удивлением вглядываясь в глупенькое личико девицы, в ее короткие пальчики и круглые коленки, Лана неожиданно, но совершенно ясно осознала, что юность несравнимо сильнее красоты. Никакая пудра не могла соревноваться с нечистой, но детски нежной кожей, никакая помада не могла сравниться с блеском девичьих губ. Даже пот этой замарашки был зна`ком жизни, запахом здорового, готового к деторождению тела.
Домой Лана Васильевна пришла расстроенная. Попыталась утешить себя, рассматривая фотографии семидесятых годов, когда она была настоящей красавицей. Эта девица не стоила бы ее ногтя в то время. У девушек теперь не бывает тонких талий, они все длинные, как сосиски, или круглые, как бочонки. Лана Васильевна сохранила и талию, и гладкость кожи. Три года назад ей исполнилось пятьдесят, но она все еще не могла привыкнуть к этому, говорила подругам: «В нашем возрасте, когда уже за сорок, нужно правильно питаться». Собственно, подруг у нее было только две – Зойка и Лидуся, бывшие одноклассницы-однокурсницы, которые, как и она, всю жизнь прожили в одном районе и вместе учились в школе на углу канала и Вознесенского проспекта, в то время носившего имя Майорова – комиссара Рабоче-крестьянской Красной армии, напрочь забытого в перестройку, когда проспекту