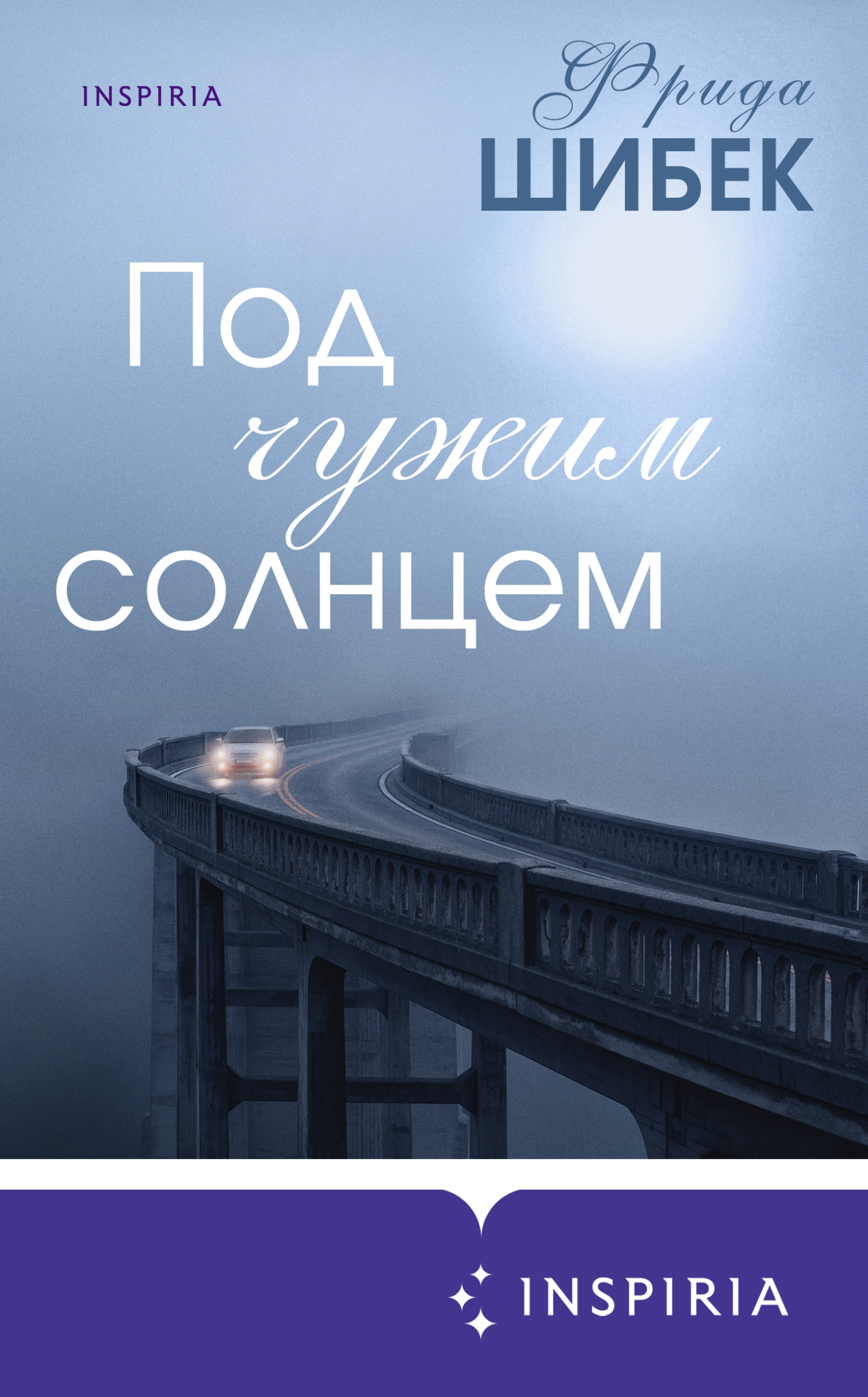сказали ничего друг другу, все еще как бы и не случилось, но я понимал, что это неизбежно. У меня не хватит сил остановить эту ситуацию, мне нечего возразить.
– Я перехожу в другую школу, – наконец сказал Йокке.
Я сглотнул и удивленно посмотрел на него, хотя уже знал об этом. В глубине души я мечтал о том, чтобы существовала возможность остановить время. Чтобы я мог замереть, чтобы мы остались вдвоем навсегда. Но Йокке больше этого не хотел, у меня не было другого выбора, я должен был уважать его решение.
– Хорошо, – ответил я.
Он кивнул, поднялся по лестнице и зашел в дом.
Какое-то время я еще постоял возле его дома, пытаясь привести в порядок бурлящие во мне чувства. В последнюю пару часов произошло слишком много всего.
Я сжал кулаки и развернулся. Спускаясь по улице в последний раз, я чувствовал, как горе тысячей осколков вонзилось мне в сердце.
Тому, кто никогда не был в СИЗО, сложно понять, что такое на самом деле семь квадратных метров. Это мало. Каждый вечер, когда становится темно, стены сжимаются и камера становится еще меньше.
Нет ничего хуже ночей. Сидишь взаперти, зная, что не увидишь живого человека в ближайшие двенадцать часов. Единственный остающийся контакт с внешним миром – беспокойные звуки, издаваемые другими заключенными, вздохи и стоны, раздающиеся повсюду. Даже самым крепким приходится нелегко.
Если тебе удастся заснуть, тебя точно разбудят. Тебя вырвет из царства сна кто-то, кто сорвется. Кто-то, кто закричит, начнет колотить в двери, рыдая от страха и отчаяния.
Для меня все это не важно. Мои ночи – это вечная борьба, в которой я мечусь между кошмарами. Иногда я вообще перестаю понимать, где я, сплю я или бодрствую.
Именно по ночам ко мне приходят самые мрачные мысли, те самые, что обычно зарыты глубоко в моем подсознании. Я пытаюсь отгонять их, не хочу иметь с ними ничего общего, но почти никогда не получается. Вместо этого я лежу, ворочаясь, и покрываюсь холодным потом в лунном свете. И размышляю обо всем, что пошло не так. Я совершил столько ошибок, я сделал столько всего, о чем я сожалею, и я думаю, так ли у всех остальных людей на земле. Все ли носят с собой этот груз? Является ли он неотъемлемой частью жизни?
Я думаю о маме, которая забиралась по вечерам ко мне в кровать и лежала со мной, дожидаясь, пока я усну. От нее всегда вкусно пахло, она зарывалась лицом мне в шею. Она шептала мне, что я ее любимый мальчик, что она любит меня больше всего на свете. Я чувствовал ее теплое дыхание, оно успокаивало меня. Я думаю, что все было бы иначе, если бы мама осталась жива. Скольких ошибок я бы избежал, если бы у меня была надежная основа и кто-то, с кем я мог бы поговорить!
Но все это лишь пустые мысли. Однажды я познакомился с парнем-буддистом, и он сказал мне, что каждый сам отвечает за свою судьбу. Что абсолютно бессмысленно опираться на гены или на среду, что нужно сконцентрироваться на том, что подконтрольно тебе. И смотреть вперед.
Я провожу пальцами по закругленному краю кровати. Думаю, что когда-то слышал, что в СИЗО кончает с собой больше людей, чем в тюрьме. Сидеть в заключении – одно дело, а вот не знать, за что ты сидишь и сколько тебе сидеть, – совсем другое. Неизвестность – чудовищная нагрузка на психику, поэтому все камеры предварительного заключения не содержат ничего такого, чем можно попытаться покончить с собой. Никаких острых углов и краев, все шарниры и косяки закрыты. Нет ничего, к чему можно было бы привязать одежду или постельное белье, и все же те, кто действительно решается, все равно это делают.
Я слышу, как кто-то дышит, слышу приглушенный стон и отворачиваюсь к стене. Я думаю, что мне нужно держаться. Скоро все это закончится. Мне все еще стыдно из-за того, что я устроил, но в конце концов они меня отпустят. Дело лишь во времени, а оно воспринимается субъективно. Час может показаться минутой, а минута – часом. Но совсем скоро я выйду через эту дверь и оставлю все это за собой. Единственное, что мне нужно, это оставаться спокойным и сосредоточенным. Не впускать в себя все, что происходит вокруг. Я должен держать Валлина подальше от себя, уворачиваясь от его ядовитых стрел. Он может допрашивать меня, сколько ему будет угодно, болтать до тех пор, пока язык не начнет кровить. Я все равно никогда ничего не скажу.
Прозвучал звонок, я вышел со школьного двора и пошел по почти пустынным улицам на север. Сдвоенный урок обществознания был мне сейчас не по силам, да и сидеть одному за обедом не хотелось.
С того самого случая с трусиками Лизы каждый день в школе стал для меня адом. В классе со мной никто не разговаривал. Когда по биологии нужно было делать групповую работу, меня и Дритана, плохо говорящего по-шведски парня из Румынии, от которого воняло чесноком, никто не выбрал. Девочки сбивались стайками, шептались за моей спиной и строили мне страшные мины, а вчера какие-то девятиклассники крикнули, что мне еще прилетит. Наверняка это были друзья Лизиного старшего брата Тео, и они пообещали ему избить меня за то, что я сделал.
Папа не сказал ни слова о своем разговоре с директором, да и мне было все равно. А что он мог мне сказать? Мне не нравится, когда звонят из школы и мешают мне напиваться. Лидия, напротив, все время спрашивала, как у меня дела, но я не хотел разговаривать с ней о том, что произошло. Она была такой грустной с того дня, как уехала Мила, и я не мог добавить ей еще причин для печали.
Я сел на скамейку под деревом у края тротуара и, подобрав несколько камней, бросал их в проезжавшие мимо машины.
На другой стороне улицы возле открытой двери стояли какие-то коробки. Высокий парень в спортивном костюме пытался занести в дом одну из них, и это было так смешно, что я не выдержал и рассмеялся. Он был похож на типичного араба с накачанными мышцами, а вот бородка и брови были подстрижены, как у гомика.
– Помоги же мне! – сказал он, наконец поворачиваясь ко мне. Я обернулся, чтобы убедиться, что он обращается именно ко мне. – Я тебя