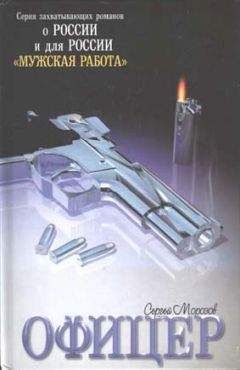Вообще-то Серафима Наумовна была очень дельной секретаршей — так сказать, старой закваски. Она в совершенстве владела машинописью и стенографией, а с бумагами управлялась так лихо, что на ее локтях так и мерещились профессиональные нарукавники. Она досталось Эдику от его папаши как бы в качестве ценного подарка в ознаменование открытия собственного дела. Расстаться с секретаршей у Светлова-старшего были веские причины. Не так давно Серафима Наумовна похоронила мужа, в память о котором на ее жилистой шее осталась нитка крупного жемчуга и кулон с изумрудом, и теперь, в качестве новоиспеченной вдовы, находилась в состоянии интенсивной брачной активности и вознамерилась приобрести еще одного супруга, чем до смерти напугала Светлова-старшего. Он-то ведь еще был не вдовец.
— Эдуард Михалыч занят на коммерческих переговорах, — с уморительно ледяной любезностью сказала секретарша. — Вы можете подождать?
— К сожалению, Серафима Наумовна, у меня сейчас важное интервью, а затем монтаж материала, — вздохнула Маша. — Будьте так любезны, передайте Эдику, что я постараюсь вернуться к одиннадцати.
— …интервью, монтаж материала… — как эхо повторила секретарша. — Я записала. Что еще?
— Пусть не скучает.
— Это все?
— Да, Серафима Наумовна. Душевно вам признательна, — улыбнулась Маша и положила трубку.
На душе у нее, однако, было неспокойно, а по телу прокатывалась легкая дрожь. Не то чтобы она чувствовала себя преступницей-рецидивисткой. С точки зрения морали и нравственности, а тем более уголовного права, она была вполне чиста. В конце концов, ведь не развращала нее она малолетних и не совокуплялась с животными! Грех же супружеской неверности, по ее твердому убеждению, целиком и полностью искупался тем, что она вообще терпела подобные брачные узы… Источник ее волнения не имел никакого отношения к чувству вины и заключался совершенно в другом. Машу смущало, что на этот раз и, кажется, впервые в жизни она сближалась с мужчиной не потому, что тот достаточно настойчиво добивался возможности заняться с ней любовью, а потому что она сама хотела с ним переспать.
В этот момент появился Борис Петров с бутылкой хорошо охлажденной водки и рюмками.
— Дернем, — деликатно предложил он, понимая состояние Маши. — А потом потанцуем.
Маша всегда ненавидела водку, но сейчас с благодарностью опрокинула рюмку одним большим глотком, который показался ей глотком очень горячего чая и мгновенно истребил как дрожь, так и всяческое смущение. Закусывали еще не остывшей снедью из бумажных пакетов от «Макдональдса».
Борис Петров включил магнитофон и протянул Маше руку. Оказывается, он был большим поклонником тяжелого рока. Тонкие блочные стены завибрировали от низких частот, а стекла зазвенели от верхних.
Несмотря на сумасшедший ритм музыки, Борис и Маша танцевали медленный танец. Маша сразу устроила голову на плече у партнера. Голова у нее кружилась так приятно, словно она пила не водку, а шампанское. По причине приятно нарушенной координации она сбросила свои новые дорогие туфли. При каждом темпераментном барабанном пассаже Борис все крепче прижимал ее к себе — так что ее носки уже едва доставали до ковра.
Исполнение подобного интимного танца способствовало тому, что очень скоро Маша сделала для себя весьма важное открытие. Бориса Петрова, в отличие, скажем, от Эдика Светлова или господина Зорина, можно было по праву наградить эпитетом «арабский жеребец». Далее более того. Это был просто-таки какой-то наш родной Сивка-бурка — «встань-передо-мной-как-лист-перед-травой». Погрузившись в свойственные ей философские размышления, Маша не преминула отметить, что две коннозаводческие характеристики существенно между собой различались. Говоря научным языком, градации фаз распределялись от нулевой точки абсолютного покоя — к промежуточным состояниям — вплоть до функциональной готовности. Однако в данном случае можно было и не быть профессором сексологии. Элементарный эмпирический опыт убеждал в том, что через плотную ткань мужских брюк прощупывался именно Сивка-бурка. Если арабского жеребца можно было идентифицировать, так сказать, постольку поскольку, то легендарный подвид жеребца ощущался просто как таковой и ни с чем не сравнимый — без всяких оговорок. Музыка продолжала греметь.
— Ну как? — спросил Машу Борис Петров.
В вопросе содержалась некоторая неопределенность, и Маша решила, что он касается предмета ее размышлений.
— Беру не глядя, — ответила она.
Потом без всякого контрапункта они вдруг начали целоваться и целовались до тех пор, пока Маша не почувствовала, что вся она превратилась в один огромный рот. Только когда губы Бориса опустились ниже и тронули ее левый сосок, она обнаружила, что уже раздета по пояс. Безотчетно подавшись вперед, она направила грудь к его приоткрытому горячему рту и в следующий момент почувствовала, что превращается в один зудящий, словно пронизываемый слабым электрическим током сосок.
Логика развития событий привела к тому, что после цепочки превращений, во время которых Маша становилась то ступней, то ягодицей, то пупком, она вдруг осознала, что совершенно обнаженная лежит на софе, покрытой красным пледом и ощущает себя одним бесконечным, вселенским лоном, раскрытым навстречу всем галактикам. Более того, с несказанным изумлением она обнаружила, что уже успела принять в себя все то, чем был Борис. Все нарождающиеся млечные пути сплелись в единый вихрь и достигли заветного центра, где сотворялись новые миры.
Космическая одиссея Маши Семеновой длилась ни много ни мало — часа два с половиной. Почувствовав себя снова на грешной земле, а вернее, на софе, покрытой клетчатым пледом, в объятиях мужчины, с которым она познакомилась на похоронах всего несколько часов назад, Маша не испытала ничего, кроме приятной истомы, и благодарно погладила мускулистое тело, которое, надо думать, изрядно утомилось после непрерывной гонки за космическими наслаждениями. Маша была уверена, что стоит ей только «крикнуть-свистнуть» и скачки возобновятся в том же былинном аспекте, однако решила, что пора, как говорится, и честь знать.
— Что это? — спросила она, услышав какие-то звуки со стороны кухни.
— Брат вернулся с работы, и мама поит его чаем, — ответил Борис Петров.
— Посмотри, что с моей щекой, — попросила она. Он притронулся кончиками пальцев к ее подбородку, и она вздрогнула от саднящей боли.
— Я, кажется, поцарапал тебя своей щетиной. Не мажь ничем, пусть само подсохнет, — как ни в чем не бывало сказал он и тут же пообещал: — В следующий раз обязательно побреюсь!