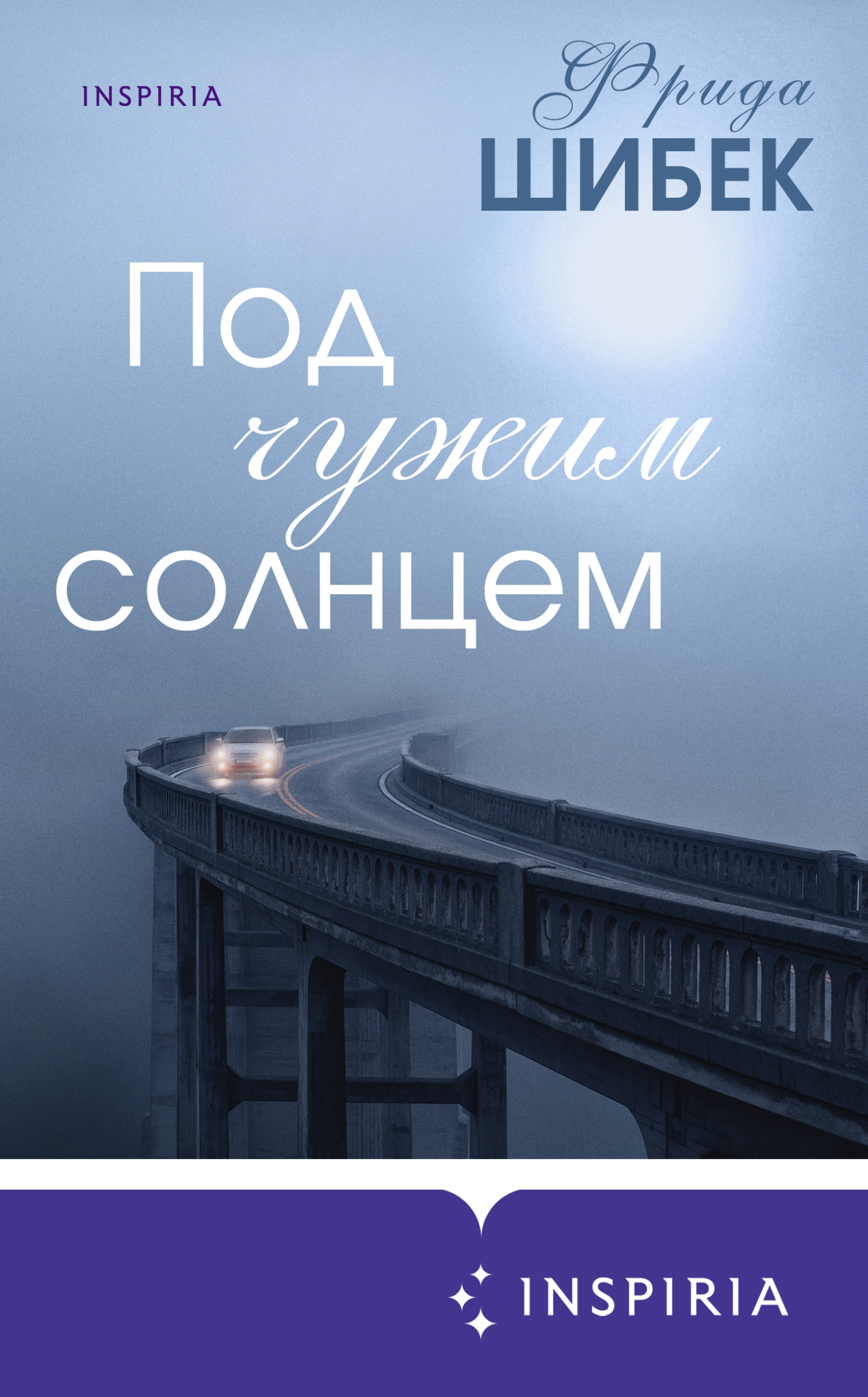скамью.
Прямо посреди автобусной остановки стоит заброшенный дом, похожий на те, что я видела в Гренгесберге. Когда угольную шахту закрыли в конце восьмидесятых, многие переехали из этого города, и двадцатиэтажный дом остался пустым. Подобные строения, стоящие рядами посреди проросшей травы с выбитыми окнами и потрескавшейся светло-желтой штукатуркой, всегда пугают меня.
Я останавливаю взгляд на зеленой пластмассовой мусорке, которую кто-то пытался перевернуть. Темные тени выдаются по ее сторонам, а вокруг валяется всякая ерунда, раздираемая жадными птицами. На деревянной скамье кто-то витиеватыми буквами вырезал ругательство, и я вспоминаю лифт в том доме, где я выросла. Я вижу черные каракули и кривое зеркало, искажающее лицо, я вспоминаю все те моменты, когда я долго поднималась на свой шестой этаж, и в горле у меня образуется комок.
Возвращаясь из школы, я никогда не могла быть уверена в том, что меня ждет. Иногда мама была в прекрасном настроении, она стояла на кухне и пекла блинчики, включив на полную громкость Джони Митчелл и разложив на столе свой новый арт-проект. Это могло быть все что угодно: от альбома с моими детскими фотографиями, красивыми иллюстрациями и рамочками, к которым она приклеивала ракушки, до платья, сшитого из шторы. Когда я переступала через порог, она радостно вопила и бежала обнять меня, словно мы не виделись несколько лет. В такие дни мы могли сидеть до полуночи, слушать музыку и болтать о жизни. А когда Грета из квартиры рядом с нами стучала в стену, потому что не могла уснуть, мама только делала музыку громче.
Но бывали и другие дни, когда маме было плохо. Иногда я чувствовала это, даже подходя к двери. Словно ее плохое настроение просачивалось сквозь ящик для писем, и я торопилась домой, потому что волновалась, что с ней что-то случилось. Чаще всего я заставала ее в спальне в пижаме, с растрепанными волосами, но иногда она перебиралась на диван. Шторы были задернуты, она лежала в полутьме и смотрела в стену. В такие дни я подходила к ней, обнимала ее, а она всхлипывала и просила у меня прощения.
– В моей болезни виноват твой отец, – всегда говорила она, – Это из-за него я стала такой.
А я утешала ее, говорила, что все это не страшно, что она прекрасная мать.
– А ты самая лучшая дочь на свете, – говорила она. – Как мог твой отец просто бросить нас? И ведь ему жалко потратить на нас даже крону, хотя я постоянно говорю ему, как много всего тебе нужно!
Я всегда очень расстраивалась, когда она говорила о папе. Я не общалась с ним с тех пор, как родители разъехались, мне тогда было пять лет. У меня остались лишь слабые воспоминания о жизни до того момента, какие-то мутные картинки, как мы стоим вместе возле дома, где мы тогда жили. Каждый день рождения я получала от него открытку, на которой было написано: «Поздравляю, папа», но, когда мне исполнилось пятнадцать, прекратилось и это, с тех пор я больше о нем не слышала.
Я понимала, что маме приходилось сложно, но всегда очень злилась на нее, когда она срывалась. Я понимала, что она разочарована в жизни, но ведь она была единственным близким мне человеком. Она была нужна мне так же, как я была нужна ей. С другой стороны, эти «маленькие эпизоды», так она их называла, длились не дольше пары дней.
Иногда мне кажется, что именно она виновата в том, что я так не уверена в собственных отношениях. Что ее негативный опыт передался и мне. Однако, конечно, так быть не должно.
Я всегда считала, что это Ричард меня выбрал, но теперь я все чаще задумываюсь о том, что все было совершенно иначе. Возможно, меня привлекло в нем именно то, что я понимала – именно такой тип мужчин нравится моей маме. Надежный человек со стабильными финансами, тот, на кого можно положиться. Тот, кто всегда будет рядом – в отличие от папы.
В остальном это была чистая случайность.
На свою первую вечеринку в Мальмё мы с Аннели пошли в бар «Сентилитр и Грамм» на площади Стурторге. Вообще-то мне не хотелось никуда идти, но Аннели убедила меня, что нам нужно отдохнуть в чисто женской компании, и я сдалась.
Стойка бара освещенным островком выделялась над пространством, помещение вибрировало от музыкальных басов. Мы с Аннели сели за стойку, но еще не успели ничего заказать, как появился парень Аннели, Эдвин. Он выглядел очень возбужденным, громко болтал, а потом позвал ее «поговорить». Я видела, что Аннели расстроилась, но она все-таки пошла за ним, они сели в уголке.
До этого я видела Эдвина всего пару раз, но мне показалось, что он из тех, кто любит поговорить, так что я поняла, что наш вечер испорчен. А раз уж я разоделась и пришла в бар, я решила отпустить ситуацию и заказать себе выпить. Правда, прочитав меню и цены на напитки, я решила остановиться на сидре, который потихоньку потягивала.
Какое-то время я сидела, разглядывая остальных посетителей, и вдруг услышала знакомый голос:
– Так вот как вы выглядите, когда не промокли насквозь?
Ричард стоял на другом конце барной стойки, в том же темном костюме, но в этот раз без галстука. Верхняя пуговица его рубашки была расстегнута.
– Вы одна? – спросил он.
Я покачала головой и жестом показала на столик в углу.
– Я вон с теми двоими. Но им нужно «поговорить».
– Звучит не слишком весело.
– Угу, – я покачала головой. – А вы?
– С приятелями с работы, – сказал он, указывая на группу мужчин, стоявших в отдалении, все в одинаковых костюмах и с зачесанными назад волосами.
Я поменяла позу и повернулась к нему. Качнула головой, чтобы волосы красиво упали на плечи, и провела рукой по золотой цепочке на шее. Я уже почти было собралась что-нибудь сказать, но тут бармен поставил на стойку поднос с заполненными шотами.
– Десять «Алабама Сламмер»!
Я поняла, что коктейли предназначались для Ричарда и его друзей, и почувствовала легкое разочарование. А ведь я решила, что он останется со мной и составит мне компанию.
– Мне нужно идти, – сказал он, извиняясь.
– Конечно.
– Хорошего вечера.
Я допила свой сидр и посмотрела на Аннели, однако она была полностью поглощена беседой с Эдвином и не заметила меня, так что я решила пойти домой. Да, первая вечеринка в Мальмё явно не задалась, но, с другой стороны, я точно сэкономила целое состояние.
Я