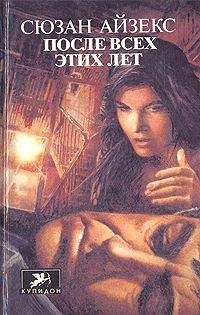— Том, я все продумала относительно возвращения в Шорхэвен. Я согласна: мне нужна будет помощь, когда я туда попаду. Поэтому я и хочу позвонить моей подруге Касс.
На этот раз он не обрушился на меня ни с криками, ни с кулаками.
— Рози, я хочу, чтобы ты услышала меня.
— Я слушаю.
— Твоя подруга сейчас является главной угрозой. Она зашла слишком далеко, помогая тебе. У нее не будет сейчас выбора — она должна будет позвонить в полицию. Может, уже позвонила, чтобы сказать, что ты поддерживаешь с ней связь. Телефон в школе, по которому ты звонила, может прослушиваться!
— Я знаю, это рискованно. Но я ей доверяю. Я действительно ей верю.
— Позволь тебе напомнить, что ты была, пожалуй, единственной, кто верил твоему мужу.
Не знаю, как долго я пребывала в нерешительности, но в конце концов я согласилась не говорить Касс, что я собираюсь вернуться в Шорхэвен, а только спросить ее, не слышала ли она чего-нибудь нового. Том, приободренный моей покладистостью, сказал, что он сам позвонит в колледж, представившись мистером Томасом, архитектором Касс, и скажет, что он хочет перенести их встречу на десять тридцать в субботу. Я молила Бога, чтобы Касс зашла в канцелярию до десяти тридцати.
Том вновь подсел ко мне на диван. Мы молча сидели, держа друг друга за руки со сплетенными пальцами, глядя прямо перед собой — два подростка, завороженные фильмом, в котором вот-вот должно произойти что-то ужасное.
В половине одиннадцатого я позвонила из телефона-автомата рядом с кафетерием.
— Алло!? — ответила Касс с вопросительным оттенком в голосе.
— Тута я, — сказала я, допуская грубейшую грамматическую ошибку.
— Как ты могла так сказать?
«Ну вот! — сказала я себе. — Это не похоже на уловку человека, сотрудничающего с полицией и согласившегося говорить со мной по телефону, который прослушивается, чтобы помочь определить им мое местонахождение и схватить меня».
— Ты еще там? — спросила Касс.
— Это я, и я здесь.
Голос у Касс не оборвался, но зазвенел на высокой ноте, как бы сквозь слезы.
— Рози, не прошло ни одного часа, чтобы я не переживала из-за того, что потеряла тебя, чтобы я не опасалась за тебя.
Я обернулась. Мне хотелось увидеть лицо Тома. Мне было так стыдно, что я усомнилась в ней. Я вспомнила строчку из французского писателя, которого я использовала когда-то для классного сочинения: «Куда более стыдно, усомниться в своих друзьях, чем быть ими преданным».
— Я тоже скучала по тебе, Касс. Ты даже не можешь себе представить, как сильно.
— Конечно, могу — сказала она уже своим голосом. — Позволь я расскажу тебе, что узнала от Стефани — очень немного. Однако, совершенно очевидно, что она в крайнем смятении. Кто-то может и не заметит, но ее нервы расшатаны до крайности. Я заглянула к ней сразу после школы, и едва успела снять пальто, как Стефани тут же выкатила свой бар. И это при известном правиле Тиллотсонов — «мы никогда не пьем до пяти вечера». Я налила себе немного шерри, а она влила в себя, по крайней мере, двойную порцию виски. Я никогда не видела ее такой бледной! Она была белее снега, белее, чем….
— …Белее, чем ты. Знаю, слава Богу, что она белая. Расскажи лучше, что она говорила?
— Что она находится в ужасном напряжении. Почему, можешь ты спросить? Она уволила работавшую у них супружескую пару, и теперь не может найти ни няню, ни, как она выразилась, подходящую домработницу, но мы обе хорошо знаем, что значит для нее «подходящая».
— А как насчет Картера?
— О, Рози! Что на тебя нашло? Пистолет был настоящий?
— Конечно, нет. А что она говорила об этом?
— У него до сих пор понос.
— Ну и прекрасно. Он это заслужил. Она ничего не говорила о Картере и Ричи?
— Они, главным образом, вместе играли в теннис, ходили на баскетбол и хоккей. Я пыталась разговорить ее и разузнать побольше о Картере, даже сказала, как был потрясен Теодор, узнав об убийстве; насильственное преступление в собственном владении с территорией более двух акров! Я даже придумала, что он плохо спит.
— Это правда?
— Конечно, нет. Теодор — крепкий орешек, — его не проймешь ничем. Он спит, как ребенок. Кстати, догадайся, кто не спит?
— Картер?
— Стефани предполагает, что он никак не может прийти в себя после того случая.
— Потому что у него нет «себя»;— вставила я. — Картер Тиллотсон от рождения безликий. Даже папоротники, растущие у Стефани, более интересны, чем он.
— Не сомневаюсь, что это именно так, но она убеждена, что он встревожен. Она предложила ему поговорить по душам, чтобы стало легче, но он отвечал только, чтобы его оставили в покое. Что и было сделано. После; вашей увеселительной прогулки он спит только в офисе.
— Учитывая понос, это для него благо.
— Несомненно. Он еще и потому там, что полиция проверяет его машину, пытаясь установить твое местонахождение, а БМВ Стефани брать не хочет потому, что у машины, якобы, какое-то не такое сцепление. А, как ты понимаешь, Стефани чувствует себя не в своей тарелке, если ей не для кого готовить. Она говорит, что все дни проводит в оранжерее, якобы только там ей хорошо. — Касс сделала глубокий вздох и заметила. — На самом деле, мне очень жаль ее.
— Ты упоминала о Джессике?
— Только спросила, видела ли она ее на похоронах? Она сказала, что не видела, только слышала, что Джессика была в чем-то сером, что, как она считает, было сделано из желания не выделяться. А вообще она не хотела говорить о Джессике. Она проявила в этом такую твердость, что это заставило меня поверить, что она знает любовных делах Картера, хотя не могу сказать это с уверенностью. Знаешь, она перескакивала с предмета на предмет, не поймешь, что ей известно, а что нет. Я бы даже сказала, что, похоже, ее очень беспокоит собственный муж. Каждый раз, когда я называла его имя… Конечно, я не могла видеть, что с ней происходит, но я, поверишь, буквально чувствовала, что она меняется в лице. Просто, может, в нормальной обстановке он такой флегматичный, что любое проявление эмоций: пугает ее.
Я переложила трубку к другому уху.
— Может, она беспокоится, потому что, раз Джессика опять свободная, Картер может снова начать волочиться за ней?
Я посмотрела назад, на Тома. Прежде чем позвонить Касс, я предложила ему послушать этот разговор вместе со мной. В отличие от меня, он сразу не захотел подслушивать — он изменил бруклинским привычкам — это Дартмут испортил его. Теперь, конечно, ему было очень любопытно, и он едва мог усидеть на диване.
— Что? Что? — прошептал он.
Я покачала головой — не сейчас — а потом сделала рукой знак в воздухе: разговор слишком сложный, чтобы попытаться передать его. Бросив на него, как мне казалось, извиняющийся взгляд, я повернулась к нему спиной.