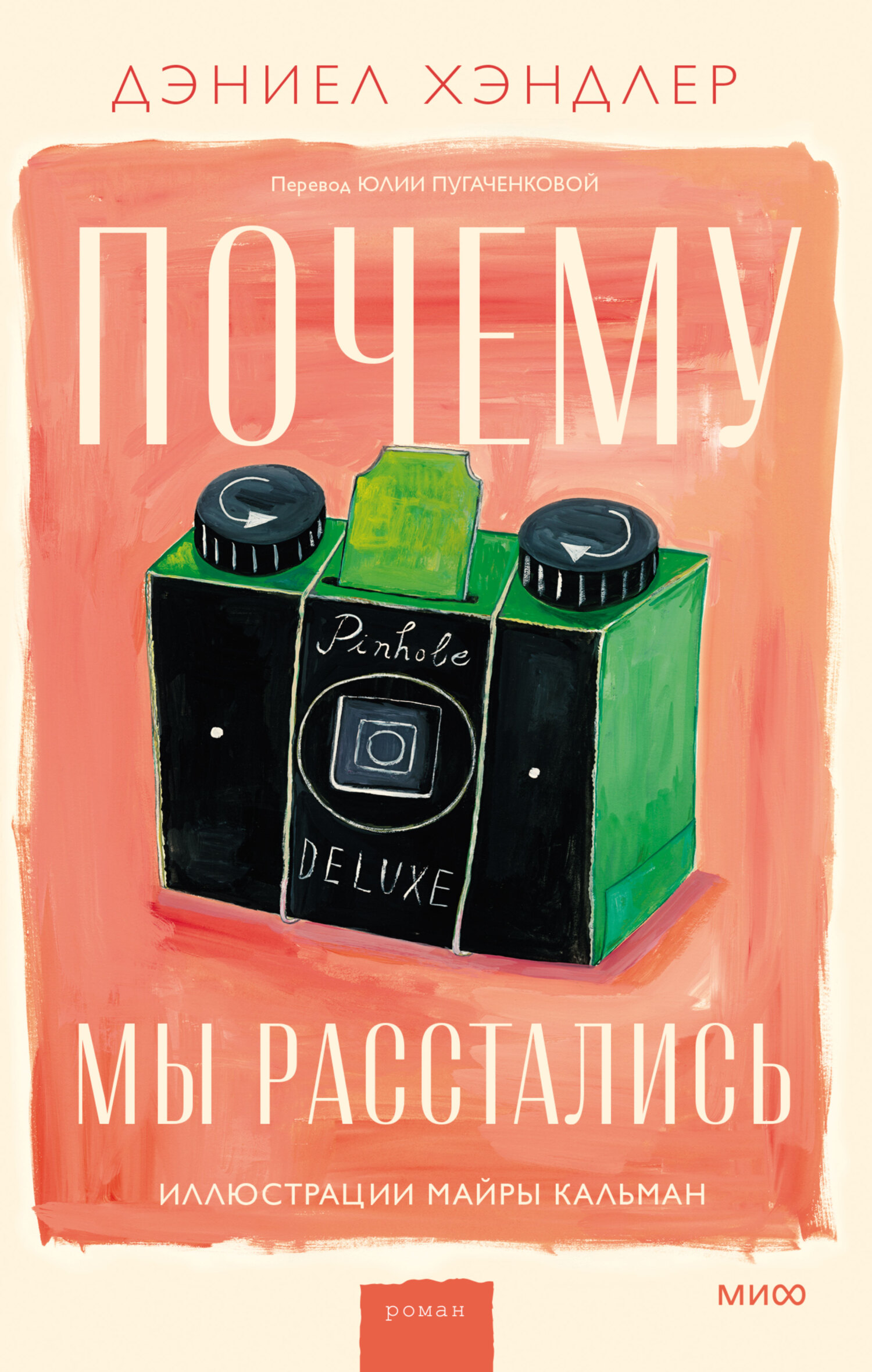напитки превратились бы в рвоту, Лотти Карсон вернулась бы домой поздно вечером, ведь мы, соблюдая все приличия, отвезли бы ее домой и проводили через заставленный фигурками сад до двери, и она, усталая после такого прелестного торжества, благодарила бы нас, называя
дорогушами. Всё в прошлом, осталось только неизгладимое, но невидимое впечатление. Точнее, в прошлом
всё, кроме. Мистер Нельсон сказал, что пятнадцатиминутное опоздание на контрольную будет занесено в мое личное дело, но и это в прошлом, как и B с минусом за контрольную, как и сочинение, которое я еле написала, как и причина, по которой я опоздала; в прошлом то, как я подбежала к тебе и поцеловала тебя в шею, как прижалась к тебе и шептала, что, кажется, это «всё, кроме» звучит не так уж и плохо. У нас было мало времени. Мы успели совсем немного, и то немногое, те двадцать с небольшим минут, скрылось там же, где в конце фильма исчезают актеры, оставляя зрителей наедине со светящимися вывесками «ВЫХОД», там же, куда пропадает любовь, когда кто-то из влюбленных переезжает со своим отцом-говнюком или отворачивается, замечая меня в коридоре. И то чувство, то ощущение совершенства, которым был наполнен день, когда ты думал обо мне, вспоминал о саде, дожидался меня у кабинета геометрии, чтобы сбежать со мной с уроков и показать то, что мне точно понравится, – это чувство тоже навеки в прошлом.
Но скорлупки остались, Эд. Посмотри на них: теперь они кажутся чем-то важным, и, когда я открываю коробочку и высыпаю их в руку, которая болит от долгого письма, у меня делается тяжело на сердце. Скорлупки оставили неизгладимое впечатление, Эд, ведь все остальное стерлось. Так что забери их. Может, если они будут храниться у тебя, мне станет немного легче.

В фильме «Приговор, орошенный слезами» есть сцена, в которой Карл Бортон, играющий прокурора, опрокидывает букет роз, и камера медленно скользит по стеблям мимо бутонов, мимо листьев и шипов, мимо ленты, которой перевязаны цветы, – говорят, она бледно-голубая, но сам фильм черно-белый – мимо заваленного книгами адвокатского стола и по паркету медленно добирается до свидетельской трибуны. И все это время слышно, как Амелия Хардвик истерично произносит пламенную речь, полную возмущения, осуждения и оправданий, и наконец в кадре появляется ее лицо, на котором читается глубочайший ужас осознания. Она и есть убийца. Она была в беседке в тот тихий вечер. Она действительно больна амнезией, это не выдумка свекрови. И в конце фильма она беспомощно рыдает, ведь наказание неизбежно, как и то, что занавес закроется.
Когда речь заходит о «Растяпах-3», мне кажется, что у меня тоже амнезия. Если бы Карл Бортон, заложив большие пальцы за подтяжки, спросил меня: «Мин Грин, клянетесь ли вы, что не видели ни единого кадра из серии кинофильмов “Растяпы”?» – я бы сначала взглянула на напыщенных присяжных, потом на Сидни Джуно – его не должно быть в этом фильме, но он так прекрасен, что я протащила бы его за собой, – и ответила бы: «Да, клянусь». Я бы сказала да, потому что все фильмы этой серии настолько дурацкие, что при просмотре я до боли стискиваю зубы. Но вот из этой коробки, из этого хранилища тоски мне в лицо вылетают билеты. Так что смотри, как унизительно я буду отрицать очевидное.
Заметив билеты, Эл недоверчиво спрашивает:
– «Растяпы-3»?!
Мне хочется его ударить, но мы только недавно помирились.
Я отвечу ему, Эд, что ты хотел посмотреть этот фильм, поэтому мы пошли в «Метрополитан». Оказавшись в полупустом кинотеатре, я все озиралась по сторонам, и ты предложил мне надеть паранджу, чтобы никто из моих друзей, которых надо бы назвать словом-которое-тебе-нельзя-произносить, не узнал, что я впервые в жизни пришла посмотреть «Растяп». (Спорим, что теперь ты постоянно произносишь это слово, Эд? Геи, геи, геи.) Но вообще-то я выискивала не друзей, а пыталась понять, есть ли среди зрителей девушки, кроме меня. И одну я нашла. Она пришла с группой одиннадцатилеток, отмечавших день рождения друга. Все это я помню, но сам фильм совершенно стерся из моей памяти, потому что в самом начале сеанса ты кое-что сказал мне, Эд. Когда погасли огни, на экране началась позорнейшая демонстрация рекламы машин и местных колледжей, которую «Карнелиан» вовеки веков не стал бы крутить перед фильмом, чего не скажешь о «Метрополитан». Но надо признать, что с чисто эстетической точки зрения реклама газировки вышла вполне достойной. Ты повернул ко мне лицо, подсвеченное фарами бронированной машины, и произнес:
– Когда будем есть, напомни, что я должен тебе кое-что сказать.
– Что?
– Когда будем есть, напомни…
– Нет, что ты должен мне сказать?
– Ну, на следующих выходных нас ждет кое-что неизбежное, и, думаю, нам стоит решить, что с этим делать.
Мне показалось, что меня со всей силы хлестнули огромной кухонной лопаткой. Я и так ощущала себя куском мяса в зале, полном мужчин, а теперь почувствовала себя ошарашенной приплюснутой котлетой. Неизбежное? Мы займемся сексом? Наше чертово совокупление неизбежно? То есть на следующей неделе мне его никак не избежать? Ты обнял меня за плечи. Я убедилась, что держу ноги вместе, хотя ближайшее к тебе колено нервозно подрагивало. Что с этим делать? Меня переполняла злость, но в то же время и смирение, ведь я слишком тебя любила, чтобы возразить. Вот вышла третья часть «Растяп», а я не смотрела ни одну из них. Я не видела ни одной сцены, господа присяжные, ни одного кадра. Если бы я нахмурилась, ты решил бы, что мне просто не нравится фильм, поэтому я сидела с неподвижным лицом и пыталась поставить мозг на паузу, ни о чем не думать и так далее. Я гнала мысли о том, что не знала, что однажды это случится и что ты, Эд Слатертон, имеешь право на неизбежный секс. Тот пошлый фильм с отвратительными шутками я забыла напрочь. Но теперь, когда Эл смотрит на билеты так, словно нашел у меня удостоверение члена ку-клукс-клана, я понимаю, что моя амнезия прошла. А вот ты, готова поспорить, забыл тот сеанс в половине четвертого в «Метрополитан», билеты на который, кажется, купил сам. Как забыл обо всем остальном, Эд.

– О чем ты подумала? – спросил ты.
Мы сидели в «Хромоножке», вновь оказавшись на месте преступления, и ты был занят приемом пищи, который у парней обычно бывает в промежутке между обедом, большой порцией попкорна и ужином, – на этот раз ты ел клаб-сэндвич с картошкой, – а я пила чай и в тысячный раз думала, что надо бы положить в сумочку хорошей заварки на случай, если мы снова пойдем в кафе.
– То есть ты решила, что я перед началом фильма мог сказать тебе, что на следующей неделе ты потеряешь, – ты понизил голос и нагнулся вперед, чтобы никто из работников «Хромоножки» не расслышал, – девственность? Что я могу сказать такое как бы между прочим? Ты за кого меня держишь? За дегенерата?
– За того, кто использует слово дегенерат.
– И ты с этими мыслями просидела весь фильм? Неудивительно, что он тебе не понравился.
Я облегченно и свободно вздохнула, словно запрыгнув в прекрасный бассейн, только и ждала этого безмятежного мгновения, чтобы поплыть.
– Ага, фильм «Растяпы-3: смотрите сами!» не понравился мне именно поэтому.
– Я бы посмотрел его еще раз.
– Заткнись.
– Правда! Ради тебя, чтобы ты смогла сосредоточиться.
– Ужасно мило с твоей стороны. Спасибо, не надо.
– Наверное, тебе сперва нужно посмотреть в твоей драгоценной книжке про кино, достаточно ли этот фильм крут, чтобы понравиться тебе.
– А может, это тебе надо обсудить с твоим драгоценным тренером, хорошо ли этот фильм повлияет на следующий матч?
– Тренер такие фильмы обожает. В конце прошлого сезона он водил всю команду на «Растяп-2».
Мне только и оставалось смотреть на тебя. Эл не перезвонил мне, когда я сбросила вызов сразу после того, как он поднял трубку. Я не могла обсудить с ним все это и думала, что уже никогда не смогу.
– Самое печальное то, что я не понимаю, шутишь ты или нет.
– О да, сегодня ты очень плохо понимаешь мою речь. Прицепилась к слову неизбежное. Я же говорил тебе, что у нас нет никакого графика и что мы ни с кем не соревнуемся.
– Ладно, но что ты имел в виду? Что случится на следующих выходных?
– Хеллоуин, балда.
– И что?
– Ну, ты, наверное, захочешь делать то же, что и вся твоя компания выпендрежников и… Мне нельзя произносить это слово.
– У нас будет самая