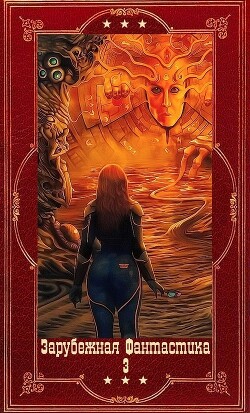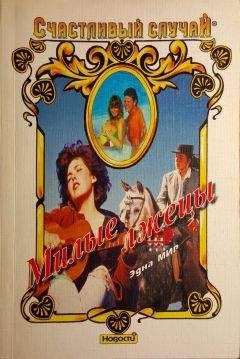class="p1">– Не понимаю, как у тебя это получается! – сетовала как-то раз Джули Арнольд, когда Селина зашла к ней в один из своих редких приездов в город. – У тебя глаза ясные, как у младенца, а у меня, как дохлые устрицы.
Они сидели в туалетной комнате Джули в ее новом доме на севере Чикаго – новом доме, который на этот раз оказался старым. Глядя на туалетный столик Джули, у любого разбежались бы глаза. Селина де Йонг в строгом черном костюме и простой черной шляпе тоже смотрела на него и на Джули за ним с серьезным, живым интересом.
– Похоже на отдел косметики в универмаге «Мэндел», – сказала Селина, – или на операционную в больнице перед сложной операцией.
Там стояли большие стеклянные банки с порошками, белыми и золотистыми. Тут же в несколько рядов баночки с кремами – массажным, под пудру и очищающим, за ними небольшие фарфоровые чашечки с алой, белой и желтоватой пастой. Из перфорированного контейнера торчал клочок ваты. Вы могли увидеть различные виды туалетной воды, духов, опрыскивателей, французского мыла, мазей, каких-то тюбиков. Не туалетный столик, а целая лаборатория.
– Это? – вскричала Джули. – Ты еще не видела туалетную комнату Паулы! По сравнению с ее косметическим ритуалом я всего-то быстренько споласкиваю лицо в кухонной раковине.
Двумя указательными пальцами привычным движением снизу вверх она втирала вокруг глаз кольдкрем.
– Как увлекательно! – воскликнула Селина. – Когда-нибудь я тоже попробую. Сколько всего я хочу когда-нибудь попробовать! Сколько всего я никогда не делала и непременно хочу сделать ради удовольствия! Ты только подумай, Джули, мне ведь никогда не делали маникюр! Скажу девушке, чтобы она покрасила мне ногти красивым ярко-красным лаком. И дам ей на чай двадцать пять центов. Маникюрши такие хорошенькие, у них модные стрижки и необыкновенные сияющие глазки. Наверное, ты решишь, что я сошла с ума, если признаюсь, что рядом с ними я сама чувствую себя молодой.
Джули массировала себе лицо. И ее глаза смотрели в пустоту. Внезапно она произнесла:
– Послушай, Селина, Дирк и Паула слишком часто бывают вместе. О них уже начали болтать.
– Болтать?
Улыбка исчезла с лица Селины.
– Господь знает, я не пуританка. В наше время и в нашем возрасте это невозможно. Если бы в молодости я могла представить себе, что настанет время, когда… Конечно, после войны, похоже, все стало допустимо. Но Паула лишена благоразумия. Все знают, что она без ума от Дирка. Дирку-то хорошо, но каково ей! Она никогда не пойдет в гости, если туда же не приглашен Дирк. Да, Дирк ужасно популярен. Господь свидетель, таких молодых людей, как он, в Чикаго немного – красивых, успешных и элегантных. Они чаще всего подаются на восток, как только заставят своих отцов открыть для них восточное отделение или филиал семейной фирмы… Дирк и Паула везде и все время вместе. Я спросила ее, не собирается ли она разводиться со Штормом, но она ответила, что нет, у нее недостаточно собственных денег, да и Дирк тоже зарабатывает не так уж много. Он получает тысячи, а она привыкла к миллионам. И что теперь делать!
– Но они же росли вместе, – неуверенно возразила Селина.
– И выросли. Не говори глупости, Селина. Ты все же не настолько молода.
Нет, не настолько. Когда Дирк в следующий раз приехал на ферму, что теперь делал нечасто, она позвала его к себе в спальню – холодную, убогую, темную спальню, где стояла старая черная ореховая кровать, в которую более тридцати лет назад она легла невестой Первюса де Йонга. Поверх грубой ночной рубашки она накинула вязаную кофту. Ее густые волосы были аккуратно заплетены в две длинные косы. В тусклом свете Селина была похожа на девочку. На Дирка смотрели ее большие, ласковые глаза.
– Дирк, сядь здесь, рядом со мной, как раньше.
– Мама, я смертельно устал. Играл в гольф, и пришлось пройти двадцать семь лунок.
– Знаю, у тебя теперь все болит, но это приятная боль. Я ее чувствовала, когда целый день работала в поле. Сажала или собирала овощи.
Дирк не ответил. Она взяла его за руку:
– Тебе не понравилось то, что я сказала. Прости. Я говорила не для того, чтобы тебя расстроить, дорогой.
– Знаю, мама.
– Дирк, ты знаешь, как тебя сегодня назвала та женщина, которая освещает светские новости в воскресной «Трибюн»?
– Нет. Как? Я «Трибюн» не читаю.
– Дирк, она сказала, что ты один из jeunesse dorеґe.
– Надо же! – усмехнулся Дирк.
– Французского, который я учила в школе мисс Фистер, мне хватило, чтобы перевести. Это значит «золотая молодежь».
– Я-то? Вот здорово! Хотя я даже не блестящий.
– Дирк! – ее тихий голос слегка задрожал. – Дирк, я не хочу, чтобы ты был золотой молодежью. И мне все равно, какой толщины на тебе позолота. Дирк, я не для этого работала в жару и в холод! Я тебя не упрекаю, работы я не боюсь. Прости, что я о ней заговорила. Но, Дирк, я не хочу, чтобы моего сына называли jeunesse dorеґe. Нет! Кого угодно, только не моего сына!
– Послушай, мама, это просто глупо. Что ты такое говоришь? Звучит как мелодраматическая речь матери, чей сын пошел по кривой дорожке… Я работаю, как лошадь, и ты это знаешь. Ты безвылазно сидишь здесь на ферме, и у тебя искаженное представление о мире. Продай ты ее, переезжай в город и живи там.
– Ты хочешь, чтобы я жила с тобой? – в ее голосе прозвучал сарказм.
– О нет! Тебе самой не захочется, – поторопился он. – К тому же меня все время не бывает дома. Я целый день в конторе, а вечером куда-нибудь иду.
– А когда ты читаешь, Дирк?
– Ну… э-э-э…
Сев на кровати, она смотрела на тоненький кончик косы, который наматывала на палец.
– Дирк, что ты продаешь в этом кабинете из красного дерева? Я никогда не могла толком понять.
– Облигации, мама. Ты прекрасно знаешь.
– Облигации. – Она на минутку задумалась. – Их трудно продавать? Кто их покупает?
– Бывает по-разному. Все покупают, то есть…
– Я не покупаю. Наверное, потому, что, когда получаю деньги, сразу же трачу их на ферму – на новый инвентарь, ремонт, семена, скот или какие-нибудь усовершенствования. На овощной ферме всегда так. Даже на такой маленькой, как наша.
Она снова задумалась. Дирк, зевая, теребил край одеяла.
– Дирк де Йонг – продавец облигаций!
– Ты так это произнесла, мама, как будто я занимаюсь гнусными махинациями.
– Знаешь, Дирк, иногда я и правда думаю, что, если бы ты остался здесь, на ферме…
– Боже мой, мама! Ради чего?
– Не знаю. Чтобы