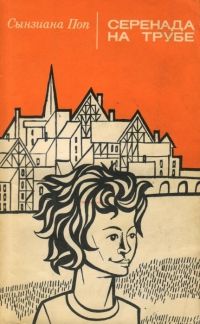Воздух в комнате был такой удушливый, что две улитки тут же взобрались по моим пальцам и поползли выше. Два гноящихся слизняка, как два шрама. Мне было мерзко!
— И тебе нет никакого дела? — упрекнула меня тетя Алис.
— Есть дело, нет дела, все равно finita la comedia[33].
— Бедная старуха, да простит ее господь.
— Это хорошо бы, хотя я не очень верю. Я не очень верю, что он простит ее как раз сейчас. Разве только вы попросите. Помолитесь за нее. Хотя не знаю, стоит ли. Думаю, что ничем уж нельзя помочь.
— Что ты все болтаешь? — нахмурилась тетушка.
— Ничего. Манана делала, что ей было по сердцу. Господи, как хотела бы я быть в ее шкуре.
— Послушай, — сказал Командор. — Ты ее убила.
— Я хотела ей всего лишь помочь. Умирают сами. Но будьте спокойны. Она чувствует себя очень хорошо. Как раз сейчас. Делает, что ей по сердцу наконец–то, а это чего–нибудь да стоит, а?
— Не заговаривай зубы, я уже обратился в городской исправительный дом. Завтра утром мы тебя туда водворим. Мы позвали тебя, чтобы сказать это. Приготовься, моя дорогая. Думаю, ты не посрамишь нас.
— Но вы позвали меня еще до того, как умерла Манана. Что тогда вы хотели сказать? Мне жаль было бы уехать, ничего не узнав. Или все заварилось из–за второго случая? По сравнению с курением — ведь верно? — все, даже самая малость, оказывается важным.
— А она не дура, — похвалил меня Командор. — Совсем не дура. Она далеко пойдет. Мать ее — просто чувствительная шлюха.
— А, вот что! Мы забыли про Мутер. Наконец–то вы вспомнили. Было бы жалко не поговорить и о ней, да?
— Раз уж ты все равно однажды это сделала, ликвидируй и свою мамашу. Нет никакого смысла ей существовать так дальше.
— Да? А я как раз об этом думала. Мне кажется, это очень интересно.
— Да. Конечно! Кх–кх, кхо–нечно!
Командора одолел тяжелый приступ кашля, он задыхался, лицо его посинело.
— Хотя… — сказала я, глядя на него внимательно. Тетушка Алис поднялась с кресла и поспешила за таблетками, лежавшими на ночном столике у кровати, она насильно всунула их старику, замочив водой ему рубашку и отвороты халата.
— Энеас, Энеас, дорогой, не волнуйся. Птенчик, дорогой, успокойся.
Но Командор сжался в кресле, он сидел, скрючившись, как почерневший побег. Я встала и на цыпочках пошла к двери. Однако в эту минуту грудь старика исторгла скрежещущий звук, а может, это просто треснула по шву его куртка, когда он пытался повелительным жестом вернуть меня назад. Он закрыл глаза.
— Послушай, — сказал он через некоторое время, — мать твоя могла бы пойти далеко.
— Она и так достаточно сумасшедшая.
— Не об этом речь.
— Да.
Мне захотелось спать, между полами капота тетушки Алис колено показалось как луна, круглое и лысое, колено племенного быка. Думаю, было поздно.
— И Манана могла пойти очень далеко. И она пошла. Она не слишком отстала от Мутер. Обе вскоре окажутся далеко. К сожалению, со мной сложнее. Не думаю, что мне помогут. Манана уже все сделала. Остается Мутер. Так что вам не следует беспокоиться.
— Послушай, — сказал он, — ты должна все узнать: твоя мать — шлюха. Мы не можем оставить тебя на нее. Ты должна пойти в исправительную школу.
— Очень хорошо. Я сказала вам — пожалуйста, не беспокойтесь. В самом деле, нужно получить образование. Я тоже хочу далеко пойти. Иначе нельзя. Манана и Мутер уже пошли. Иначе нельзя. Хотя я не знаю, дойду ли я до конца, я совсем не знаю, хватит ли у меня смелости. Понимаете, очень просто.
— Это совсем другое дело, — прошептал старик, снова внезапно превратясь в почерневший побег, — это… кху, кхе!..
Он опять закашлялся, ловя ртом воздух, но можно было десять раз обежать вокруг комнаты, свежий воздух все равно ниоткуда не проникал для его легких, затертых, как кухонная тряпка. И я вспомнила Эржи, его крадущиеся шаги в коридоре и «Иезуш Мария», господи боже мой, улитки ползли уже выше кисти, липкие белые следы высохли на коже полосами.
— Боже мой, вот беда, — закричала тетушка Алис, — боже мой!.. Что с тобой сегодня, малыш?
Почерневший побег окончательно скрючился в кресле, сжался и застыл, у него были все шансы тоже очень далеко пойти. Тетушка Алис спрятала свою луну под капот, встала с кресла и, взяв Командора на руки, переправила его на постель.
— Убирайся, — сказала она мне, — убирайся, преступница, чтоб господь бог переломал тебе все кости!
И указала мне на дверь рукой размером с коровью ляжку.
Вначале было маленькое небо. Потом мартовская синь вырвалась наружу, я парила над ней, пытаясь увидеть все. Ближайшую гору, искрившуюся белизной. Потом другую; горы, горы, я плавно скользила сквозь тонкие солнечные лучи. А горы все сверкали, иногда дул ветер, они распускали снежные хвосты, и мне до безумия нравились эти гигантские индюки, беспрестанно крутящие зеркала. Из долин тянуло холодом, но где–то очень далеко поле дышало зноем и густой пар, поднимаясь, открывал весеннюю зелень и карликовые оранжевые крыши домов. Дикие гуси возвращались с юга, но облетали горы стороной, и черные утки, этот двухцветный флот, острыми косяками двигались к озерам.
А потом я лежала на лыжах, и снег потихоньку таял. Можно так: палки воткнуты в снег, носы лыж схвачены их кожаными петлями — это маленький наклонный пляж, ты лежишь на нем без гамака. Потому что там, наверху, солнце всегда жаркое, катаешься на лыжах раздетая уже с февраля, засучив рукава рубахи, и ветер рвет волосы, а глаза ослеплены снегом; горный загар держится долго, кожа сперва краснеет, потом становится красновато–коричневой, как у индейцев на Миссисипи.
И снег тает. Он тихонько уходит в землю. И маленькие, напившиеся водой воронки что–то бормочут — явственно слышно, как умирает снег. Лесные цветы поднимаются, держа на голове старые листья, потом листья падают в сторону, как шляпы; и лишь много позже стелются по земле ковры подснежников и шафрана.
Смешиваю в банке снег с повидлом, но это уже в январе, снег должен быть пушистым, я сижу на ступеньках нашего дома и ем его, пока не заболят зубы.
Если народу было много, женщины принимали солнечные ванны. Они сидели на террасе в шезлонгах. Молодые девушки взбирались на штабеля досок у дома, но иногда там, на досках, пахнущих свежими опилками, не хватало места, и тогда они садились у окон. Сверху хорошо видно. Видна трасса для слалома, если закрыть глаза, если зажмурить их от яркого света и загорать, все равно видны лыжники, входящие в ворота. Они всегда так спускаются. Даже когда нет состязаний. Иногда тренируются, иногда просто дурачатся.
В десять часов я была вся внимание. На террасу выходили мужья женщин, сидевших у окон, и друзья девушек, вскарабкавшихся на штабеля досок, эти мужчины, выставившие на солнце у барьера террасы напоказ лыжи со значками «Хикорик», «Кромба», «Олимпик», эти мужчины в ботинках «арльберг» и черных брюках «хелланка». Они смеялись, очень громко разговаривали и курили, проверяли крепления, они были великолепны и необыкновенно веселы. Иногда они бросали снежки, и барышни на досках лениво протестовали, как кошки, разомлев на солнце. Тогда они переставали кидать снежки и снова принимались за курение, за кандахары и все прочее, хотя очень мало кому из них удавалось спуститься по дороге через маленький ельник, не упав.
Наши ребята, можно сказать, прямо из комнаты выходили в полной готовности. Не знаю даже, когда они ставили лыжи на склад; они проходили мимо, посвистывая, большинство из них были мне знакомы. Они давно приезжают в горы. Приезжают всегда. Одеты они не шикарно, но стоило посмотреть, как они выходят с базы и легко поднимаются по дороге через ельник; худые и сильные, они взбирались вверх по лыжне, а потом неслись вниз, проделывая головокружительные повороты на снегу. Они приезжали в горы каждую зиму, по вечерам я показывала им, откуда брать для печки дрова. Думаю, это были ученики городских лицеев, я видела, как иные из них ели хлеб с луком.
В одиннадцать только очень старые господа сидели еще на террасе, они пили чай с ромом или с лимоном, со стрех дома потихоньку капали капли, и было ясно слышно, как ложечки звенели, ударяясь о края стеклянных стаканов. Но затем и они уходили. Они спускались по тропинке, останавливались поговорить, потом шли дальше, потом снова останавливались — престарелые господа в топорщащихся брюках, с трофеями и рыжими и драными охотничьими псами. Они двигались очень медленно. А добравшись до лыжни, усаживались на ступеньках судейской башни. Они покуривали трубки — и только, больше они ничего не делали.
Вот тогда и я брала свои лыжи со склада. На террасе было пусто, ушли жены, проводившие время у окон, и девушки, что загорали на штабелях. Все были там. К обеду для лыжников начинался весенний сезон. Дураки съезжали не по трассе, у самой опушки леса. Там был глубокий снег, можно было спокойно спуститься, притормаживая. Но они и тут падали, великолепные костюмы вываливались в снегу. Очень честолюбивые по нескольку раз поднимались вверх и, дрожа, скатывались по трассе, а потом тоже приходили к старту слалома. Потому что женщины были там и девушки были давно там. Их жены и их девушки. Некоторые были невероятно красивы и улыбались — стоило, конечно, проехать в ворота, не сокрушив их. Стоило сделать все что угодно, лишь бы на тебя посмотрели и так вот улыбнулись. И наши парни пролетали в ворота слалома, как пантеры, загорелые, сильные, и я очень тогда их любила. Не знаю, были ли они красивы, но девушки смеялись, по вечерам разгорались целые ссоры, и все же временами двери открывались, какая–нибудь из девиц входила в комнату наших ребят, а они как раз ели хлеб с луком. А те, кто не входил, ждали в столовой и оборачивались на незнакомые шаги, на те очень уверенные шаги, ради которых на следующий день они подольше задерживались у зеркал. Но никто не мог сравниться с девушками, проходившими утром по коридору: они были необыкновенно прекрасны, когда, напевая, ждали своей очереди в умывальню.