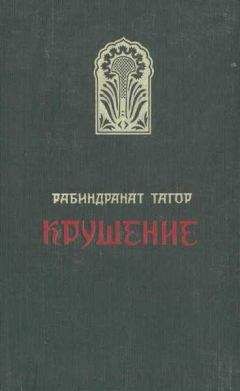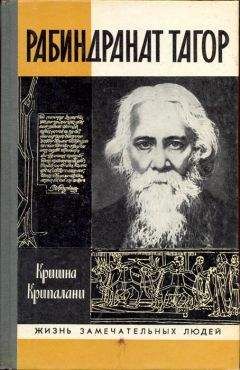Пристально глядя на Хемнолини, Джогендро ждал, что она скажет.
Лицо девушки побледнело. Она изо всех сил ухватилась за ручки кресла, стараясь сохранить спокойствие, но не прошло и минуты, как, склонившись вперед, девушка потеряла сознание и упала на пол.
Испуганный Оннода-бабу обеими руками прижал голову дочери к своей груди, без конца повторяя:
— Что с тобой, дорогая? Что с тобой? Не верь им, все это ложь!
Отстранив отца, Джогендро отнес сестру на диван и принялся брызгать ей в лицо водой из стоявшего рядом кувшина. Окхой усердно обмахивал ее веером.
Через несколько минут Хемнолини приоткрыла глаза, взрогнула и простонала:
— Отец, пусть Окхой-бабу немедленно уйдет отсюда!
Окхой положил веер и, выйдя из комнаты, остановился за дверью. Оннода-бабу сел рядом с Хемнолини и с тяжелым вздохом погладил ее по голове:
— Что ты, что ты, моя дорогая! Успокойся!
Вдруг слезы брызнули из глаз Хемнолини, грудь ее судорожно вздымалась от рыданий. Она склонилась к отцовским коленям, стараясь подавить взрыв нестерпимого горя.
— Успокойся, дорогая, перестань, — твердил прерывающимся от слез голосом Оннода-бабу. — Я слишком хорошо знаю Ромеша. Никогда он не поступит так бес: честно. Джоген, конечно, ошибся.
Раздосадованный Джогендро не выдержал:
— Не обнадеживай ее напрасно, отец. Успокаивая Хем сейчас, ты готовишь ей еще большие муки в будущем. Дай ей время все обдумать.
Хемнолини выпрямилась, пристально взглянула на брата и твердо сказала:
— Все, что мне нужно, я уже обдумала. Запомни, пока я не услышу обо всем от него самого, я ни во что не поверю.
С этими словами она встала.
— Только не упади, — забеспокоился Оннода-бабу, поддерживая ее.
Опираясь на его руку, Хемнолини удалилась к себе в спальню и легла в постель.
— Оставь меня одну, папа, — попросила она, — я попробую заснуть.
— Может, прислать к тебе Хори помахать веером? — спросил Оннода-бабу.
— Нет, нет, мне ничего не нужно, папа.
Оннода-бабу вышел в соседнюю комнату. Он думал сейчас о матери Хем, умершей, когда девочка была совсем маленькой. Ему вспомнились ее самоотверженная преданность, сдержанность и постоянная жизнерадостность. Он вырастил девочку, ее дочь, и она стала живым воплощением своей матери. Сердце Онноды-бабу обливалось кровью от сознания, что Хем страдает. Сидя за стеной ее спальни, отец мысленно обращался к ней:
— Не знай горя, моя дорогая девочка, будь счастлива! Как хотелось бы мне, прежде чем я соединюсь с твоей матерью, увидеть тебя радостной и довольной, знать, что ты нашла приют в доме человека, которого любишь!
Он вытер влажные глаза краем своей одежды.
Джогендро и раньше не был высокого мнения об уме женщин, теперь же убедился в этом окончательно. Что с ними поделаешь, если они не верят даже неопровержимым доказательствам! Им ничего не стоит безапелляционно утверждать, что дважды два вовсе не четыре, с полным безразличием к тому, как об этом думают другие. Разумные доводы говорят, что черное и есть именно черное, но стоит любви подсказать им, что черное это белое, как они с гневом обрушиваются на любые доводы! Непонятно, как еще может существовать мир, когда в нем есть женщины!
Наконец, прервав свои размышления, Джогендро окликнул Окхоя. Тот вошел в комнату как-то бочком.
— Ну, ты, конечно, слышал все? Что же нам теперь делать? — спросил Джогендро.
— Зря ты впутываешь меня, друг, во все эти дела. Я был совершенно к этому непричастен, а ты приехал и сразу втянул меня в неприятную историю!
— Довольно! Жаловаться будешь потом. Теперь нам остается лишь одно: принудить Ромеша, чтобы он сам все рассказал Хемнолини.
— С ума сошел! Кто же станет признаваться сам.
— А еще лучше, пусть напишет письмо. Этим тебе сейчас и придется заняться. Но имей в виду, нельзя терять ни минуты.
— Хорошо. Посмотрю, что тут можно предпринять, — ответил Окхой.
В девять часов вечера Ромеш и Комола отправились на вокзал в Шиялдохо. Пробирались кружным путем, — извозчику было приказано ехать переулками. Когда экипаж поровнялся с одним из знакомых нам домов в Колутоле, Ромеш высунулся из окна и с жадным вниманием оглядел его. Ничего здесь не изменилось, все оставалось попрежнему. Он вздохнул так тяжко, что разбудил задремавшую было Комолу.
— Что с тобой? — спросила она.
— Ничего, — ответил Ромеш и, усевшись поглубже, продолжал путь в молчании.
Комола снова прислонилась к спинке экипажа и моментально заснула. За те несколько минут, рока они проезжали по Колутоле, присутствие Комолы вдруг сделалось для Ромеша невыносимым.
На станцию они прибыли во-время и заняли купе второго класса, заранее заказанное Ромешем. Устроив на одном из диванов постель для Комолы, он спустил пониже абажур и обратился к девушке:
— Ложись, Комола, тебе уже давно пора спать.
— Как поезд тронется, так и лягу. А пока разреши мне немножко посидеть у окна, — попросила Комола.
Ромеш согласился. Тогда, натянув на голову покрывало, она уселась на краешек дивана возле окна и стала смотреть на заполненную толпой платформу. А он устроился на среднем сиденье, рассеянно поглядывая по сторонам. Когда поезд начал набирать ход, Ромеш неожиданно вскочил с места, — бегущий по платформе человек показался ему знакомым.
Комола тоже заметила этого человека и разразилась веселым смехом. Выглянув из окна, Ромеш увидел, что запоздалый пассажир, невзирая на протесты железнодорожного служащего, на ходу прыгнул в вагон, оставив при этом в руках противника свой шарф, за которым снова протянул руку, уже свесившись из вагонного окна. Тут Ромеш ясно разглядел незнакомца и убедился, что это Окхой.
Комола еще долго хохотала, вспоминая эпизод с шарфом.
— Уже половина одиннадцатого, — обратился к ней Ромеш. — Мы давно едем, ложилась бы спать.
Девушка послушно улеглась, продолжая все время смеяться, пока, наконец, не заснула.
Но Ромешу было не до веселья. Он хорошо знал, что Окхой коренной калькуттский житель и в деревне у него нет никаких родственников. Куда же, в таком случае, может он так спешно ехать, да еще как раз сегодня ночью? Совершенно очевидно, что он преследует его, Ромеша.
При одной мысли, что Окхой появится в его родной деревне и начнет наводить там справки, а это немедленно вызовет всевозможные толки в кругу его друзей и врагов, юношу охватило сильное беспокойство. Вся история могла принять очень неприглядный вид. Сердце его тоскливо сжалось, едва он представил себе, какие разговоры и пересуды поднимутся в их деревне. В таком большом городе, как Калькутта, всегда можно затеряться, потонуть, но маленькая деревушка подобна мелководью, — достаточно малейшего толчка, чтобы вызвать в ней настоящую бурю. И чем больше раздумывал над этим Ромеш, тем тяжелей становилось у него на сердце.
Выглянув из окна на остановке в Баракпуре, Ромеш убедился, что Окхой тут не сошел. Множество людей садилось и выходило в Нойхоти, но Окхоя не было и среди них. Напрасно нетерпеливо высовывался Ромеш и на станции Богула. Окхой нигде не появлялся. Очевидно, бессмысленно надеяться, что он сойдет и на следующей остановке.
Юноша бодрствовал до глубокой ночи и, наконец, заснул. Когда на следующее утро поезд остановился у вокзала в Гойялондо, Ромеш увидел закутанного шарфом Окхоя, который с чемоданом в руке торопливо шагал по направлению к пароходу.
До отплытия парохода, на котором Ромешу предстояло путешествовать дальше, еще оставалось немного времени, но возле второй пристани гудел, сигналя об отправлении, какой-то другой пароход.
— Куда направляетесь? — спросил Ромеш.
— На запад.
— До какого пункта?
— Если река не обмелеет, дойдем до Бенареса.
Ромеш поднялся на палубу, устроил в одной из кают Комолу и поспешил купить в дорогу молока, рису, бананов.
Между тем Окхой, опередив других пассажиров, забрался на первый пароход. Приняв массу предосторожностей, чтобы не быть замеченным, он занял местечко, с которого было удобно наблюдать всех входивших на пароход. Но пассажиры не особенно торопились. Пароход запаздывал с отплытием, и люди, воспользовавшись этим обстоятельством, мылись, купались, а некоторые даже занялись на берегу стряпней и тут же ели. Окхой решил, что Ромеш, вероятно, повел Комолу куда-нибудь в гостиницу позавтракать, но, совершенно не зная Гойялондо, разыскивать их не пошел.
Раздались гудки, пароход вот-вот готов был отплыть, а Ромеш все еще не появлялся. По колеблющимся сходням торопливо поднимались пассажиры. Непрерывные пароходные гудки заставляли их спешить, и толпа становилась все гуще. Но ни среди уже прибывших, ни в числе вновь прибывающих Ромеша не было видно.
Наконец, поток пассажиров схлынул, сходни убрали, и капитан отдал команду сниматься с якоря.