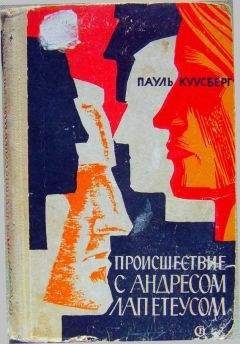При демобилизации Оскар Пыдрус почувствовал удовлетворение, что наконец-то его ожидает нива просвещения. Нива просвещения — эти слова, звучавшие напыщенно и отдававшие нафталином, заставляли его мысленно усмехаться. Но именно так сказал товарищ из Центрального Комитета и сам при этом добродушно даже проказливо засмеялся. Убеждая себя, что в отделе народного образования он сможет даже больше сделать для школы своей мечты, в душе Пыдрус сомневался и был бы счастливее, если бы его послали в какую-нибудь школу. Он боялся своего скромного, слишком скромного опыта, боялся, что административная деятельность отнимет все время и не позволит вникать в содержание учебной работы. А как же иначе он создаст школу своей мечты? Это думалось в шутку, но он действительно не собирался ограничиваться только пересылкой директив, поступающих из министерства, вопросами ремонта школ, сбором отчетов и анкет учителей.
Оскар Пыдрус работал заведующим отделом народного образования. И было бы неверно утверждать, что должность претила ему. Совсем нет. Но он не раз ловил себя на мысли, что следовало бы начать все сначала. Сперва учитель, потом, если нужно, директор школы и так далее. С его стремлением работать преподавателем математики не посчитались. Теперь он на каждом шагу ощущал, что у него слишком мало педагогического опыта и вообще нет практики руководства школой, не говоря уже о руководстве школами.
После двух лет работы Оскар Пыдрус вынужден был признаться, что его деятельность принесла мало плодов. Он оказался неважным администратором. Его порядком критиковали, и почти всегда упреки были заслуженные. Пыдрус понимал, что тонет в сутолоке текущей работы, распыляется по мелочам, вместо того чтобы заниматься планомерным строительством новой школы. Его взгляды вызвали несколько столкновений с секретарем комитета партии Мадисом Юрвеном. Кто-то донес ему, что Пыдрус не считает желательным в учебной работе опираться на положения классиков марксизма-ленинизма. Ничего такого он не говорил, но и тем, что он на самом деле сказал, Юрвен также остался недоволен.
На одном учительском совещании Пыдрус критиковал преподавателей конституции, которые требовали от учеников зазубривания цитат: «Ваша задача добиться, чтобы молодежь понимала сущность основных истин марксизма. А механическое усвоение цитат и параграфов конституции ничего не дает, наоборот, такой метод может вызвать неприязнь к усвоению великих истин нашей эпохи». Тогда-то он и сказал, что цитата сама по себе не аргумент. Это должны помнить те, кто вместо того, чтобы на основе жизненного материала понятно и интересно раскрыть сущность советской демократии, лишь сыпят цитатами. Эту фразу Юрвен назвал оппортунистической.
— Вы не считаете точку зрения наших вождей аргументами? — угрожающе спросил он.
Пыдрус остался непоколебим.
— Положения классиков марксизма-ленинизма нужно путем основательной аргументации сделать детям ясными и близкими. Молодежь надо учить самостоятельно думать.
Из-за Роогаса между ними снова возник ожесточенный спор. Хотя до этого их столкновения заканчивались более или менее нормально, было ясно, что Юрвен особо внимательно следит за его деятельностью. Пыдруса это не очень-то волновало. Гораздо больше он упрекал себя в том, что пока не сумел с должной основательностью вникнуть в содержание школьной работы. И все еще не уложил ни одного достойного упоминания камня в гигантское здание, которое он называл школой. Признаться себе в этом было больно. Потому-то Оскар Пыдрус и не смог бы ничего сказать о своей личной программе. Какую цену имеют звонкие слова, если они не подтверждены весомыми делами.
— И я бы не стыдился быть хорошим чиновником, — признался Пыдрус, — но, к сожалению, я им не являюсь. Кстати, вам не кажется, что слова «хороший» и «чиновник» не подходят друг к другу? Хороший чиновник или, скажем лучше, работник советского аппарата не довольствуется только прилежным разрешением текущих заданий. У него ясная перспектива, дальние цели, которых он хочет достичь и ради чего многое делает. А я бьюсь как рыба на берегу и постоянно забываю о своей личной программе.
3
К столу вернулся Виктор Хаавик.
— Тут не место для разговоров, которые вы ведете.
— Извини, товарищ Великая держава[12], но я с тобой не согласен, — возразил Паювийдик. — Где же еще говорить о политике, если не среди друзей, когда на столе есть и выпить и закусить? А то получается странно. На собраниях мы говорим о социализме и коммунизме, а как только за спиной захлопнется дверь красного уголка или агитпункта, так другие речи и другие интересы. Если мы о социализме будем говорить, только стоя на трибуне под лозунгами, а в остальное время станем думать лишь о копейке, бутылке водки или девчонке с пышными титьками, тогда мы новой жизни не увидим как своих ушей.
Пыдрус положил руку на плечо Паювийдика.
— Черт возьми, лихо у тебя язык подвешен! Дал бы бог нашим пропагандистам так говорить. И почему ты свою свечу под полой держишь?
«Что особенного увидел Пыдрус в болтовне Паювийдика?» — подумал Хаавик.
Лапетеус крутил рюмку между пальцами.
— На трибуне я и пикнуть не могу, — признался Паювийдик. — Меня подбили на это, и я разок попытался, так потом не смел людям в глаза глядеть. По официальной программе я сразу засыпаюсь. А вот так, во время выпивки, в обеденный перерыв, жуя кусок хлеба, или встретившись с приятелем на улице, в бане, за работой, — пожалуйста. Настоящий гвардеец, мысленно побывавший в Берлине, всегда думает о социализме. Он помнит о нем не только в государственные праздники или когда сочиняет передовую статью, нет, он ощущает его в своем сердце каждый день, каждый час. И мы должны носить социализм в себе, как носит женщина ребенка, и день изо дня шить для него пеленки, вязать чулочки, делать все другое, что нужно…
Паювийдик остановился и повернулся к Хаавику:
Все говорили о цели своей жизни. Теперь твоя очередь.
— У вас большие темы. Дайте мне сосредоточиться. Немного сконцентрироваться.
— Концентрируйся, мобилизуйся, организуйся, — подбадривал Паювийдик.
— Сейчас. Скажу коротко: я вижу смысл своего существования и деятельности в том, чтобы всем телом и душой помогать победному шествию коммунизма в стране моих отцов.
«Вот и шлепнулся», — подумал Пыдрус.
— Я летал пониже, — Паювийдик закурил новую папиросу. — Мое триединое пожелание было: солидная и высокооплачиваемая служба; просторная, комнаты на три-четыре, квартира или еще лучше — отдельный дом. Через каждые два или три года — новая жена, моложе и красивее прежней…
Хаавик не сразу понял, говорит ли Паювийдик правду или подтрунивает.
Пыдрус хохотал до слез.
Смеялся и Лапетеус. Смеялся, несмотря на то, что слова Паювийдика о высокооплачиваемой должности и женах помоложе и покрасивее касались и его.
Паювийдик с абсолютно серьезным видом наполнил рюмки.
— Знаете, товарищи, — лицо Хаавика покраснело. — О больших идеях не треплются. Я в этом не участник.
Пыдрус стал его успокаивать.
Лапетеус попытался перевести разговор на прошлое.
— Кто бы из нас тогда поверил, что мы когда-нибудь все вместе будем тут сидеть.
— Здесь не все сидят. Много хороших парней убито, — заметил Паювийдик.
— До конца развалины дома защищали только мы втроем, — произнес Хаавик. — Потому что и ты, — он бросил взгляд на Лапетеуса, — и Роогас были ранены.
— Да уж знаем, — отмахнулся Паювийдик. — Ты говорил об этом комбату и каждый год снова пишешь в газете…
— Хаавик опять ушел танцевать.
Они просидели в ресторане до закрытия.
Идя домой, Лапетеус размышлял, что будет хорошо если Роогас достойно справится со своими обязанностями. Чтобы никто не мог упрекнуть его, Лапетеуса, будто он ходатайствовал за неспособного и подозрительного человека. Потом он порадовался тому, что его отношения с Хельви стали естественнее, — вероятно, теперь это понимают и другие. И больше не обвиняют. И что созвать фронтовых друзей было умным поступком…
1
Оскар Пыдрус хотел навестить Андреса, но его не пустили. Сестра объяснила, что состояние директора Лапетеуса по-прежнему тяжелое. Врачи до сих пор не уверены в дальнейшем. Сестра не сказала Пыдрусу, что больной сам никого не хочет видеть. Она говорила только о том, что повреждения, полученные им, очень серьезны и пострадавший не должен утомляться. Работникам милиции и то разрешили пробыть у него всего двадцать минут. Даже если бы Реэт не просила сестру скрыть, что директор Лапетеус не желает принимать посетителей, сестра никому не стала бы об этом сообщать. Она сочувствовала Лапетеусу, который был образцовым больным. Он не сердился и не капризничал, ни на что не жаловался, хотя даже самые простые процедуры были для него мучительны, — он страдал от сильных приступов боли и постоянной нехватки кислорода. Ни на что не жалуясь, он позволял делать с собой все, что врачи считали нужным. Сестры не понимали, почему Лапетеус не принимает гостей. Обычно больные, которые находятся между жизнью и смертью, хотят видеть близких людей. А Лапетеус не принимает даже свою жену.