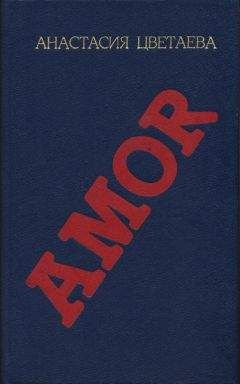ГЛАВА 15
ЖОРЖ И МОРИЦ.
ТЕТРАДКА НИКИ
Когда позже Мориц вспоминал событие этого вечера, он себя спрашивал: "Почему оно показалось мне неожиданным?
Ведь я давно думал о чем‑то подобном…" Во всяком случае, когда он подходил в поздний ночной час к бюро, он чувствовал себя очень усталым после долгого совещания и шел с одним желанием — лечь. Но в рабочей комнате кто‑то был. Он сделался весь зрение, весь — слух! Слушать, собственно, было нечего, звуков — не было. Но свет, низкий и неуверенный, мог исходить только из карманного фонаря, прикрытого рукой. С минуту стоял Мориц недвижно, затем прошел неслышно, как умеют ступать только цыгане! — замер в чрезвычайном волнении: над столом Евгения Евгеньевича, над его обычно сложенными на ночь в огромную папку чертежами стоял человек, наклонясь над раскрытой папкой, из которой было вынуто и сложено несколько отобранных чертежей. Они лежали отдельно. Это был Жорж. При свете стоявшего боком, спинкой к окну, электрофонарика, он укладывал остальные — в папку. В следующее мгновенье Мориц распахнул дверь, и рука его цепко легла на плечо гостя, ночного.
— Нет, не рвись! — громким шепотом сказал над самым ухом пойманного, который хотел было вывернуться из‑под его руки. — На таких, как ты, я изучил джиу–джитсу, один миг — и ты конченый человек! Новичок — вижу. Глупо сработал! Если б он тебя тут застал — тебе бы не отвертеться…
Жорж стоял неподвижно, губы дрожали.
— Молчи! Слушай! Если проснутся… Сейчас все проверю и спать иди, дурак и нахал! Если ж хоть что‑нибудь тут, — он показал на папку, — разобрал — молчи по гроб жизни! Слово скажешь — ты у меня в руках. Мне поверят! (Он снял руку с плеча Жоржа.)
Тот стоял, онемев.
Мориц пересчитал чертежи, завязал папку. Ему показалось, что пальцы левой руки вздрагивают ("Сердце шалит!" — сказал он себе).
— Все в порядке… Стой! — шептал он и — медленно, как бы решая — сказать? Нет? — Если такая минута придет, мстить захочешь, быть окончательным подлецом — помни, что у меня семья, и с тобой я сейчас — рискую. Мне и так жить недолго. А ты — молод, здоров, тебе — жить! Так живи — человеком… Счастье твое, что все спят!..
Ни слова не произнеся, вышел Жорж… Мориц распахнул дверь в ночь. Постоял, поднял голову. Там хрустально мигали звезды.
— Просто детектив… — сказал он себе с усмешкой.
Дождавшись, после обеда, ухода всех, в час короткого отдыха, Ника подошла к Евгению Евгеньевичу:
— Я вам обещала дать прочесть мои тюремные и лагерные стихи… — сказала она, озираясь. — Я вчера их целый вечер переписывала, после проверки, на нормальные странички, для вас… посмотрите, с чего!
И она показала крошечку–книжку папиросных листков для самокруток; крохи–листочки были написаны мелким–мелким почерком.
— Подумайте, уцелели! В глубоком (я его надшила) кармане казённой юбки — кроме меня ведь никто и не прочтет. И это останется! уцелеет! а это, — она показала на тетрадочку, — вы, когда прочтете — уничтожит е…
— Ника! Побойтесь Бога! — даже несколько взволновавшись, сказал Евгений Евгеньевич. Но она не уследила за его мыслью, отвлеклась другим, подумала: "А может быть, и Морицу дать прочесть? И пусть он затем — уничтожит!"
И только тогда до нее дошло возражающее восклицание:
— А, вы об этом! Хорошее дело! Рискованное! Чтобы при первом шмоне…
— Получить второй срок?.. Я и так два вечера дрожала за эту тетрадку… Так с ума можно сойти… — Кто‑то шел. Встав, перебирая чертежи, Евгений Евгеньевич зарывал в свои листы — Никину тетрадку. День продолжался.
В перерыве она опять подошла к нему.
— О двух вещах я хочу сказать вам сегодня, — сказала Ника, видя, что он, отложив чертежи, сел за свою шхуну, — мастеря деталь её, ему будет легко её слушать, — во-первых, ещё о том, как, должно быть, трудно было мне (что я только теперь поняла) — выучивать наизусть свои стихи.
В тюрьме среди такого шума в камере (вы сидели в таком же множестве, вы поймете) — в камере на сорок мест нас было сто семьдесят, как сельди в бочке, — но такая тяга к стихам была больше, чем на воле, — за пять месяцев столько стихов, разный ритм — как все это умещалось, дружно, в эту болванскую башку, непонятно! Все повторяла, день за днём, отвернувшись к стене, — это счастье, что я у стены лежала! Если бы между женщинами — вряд ли бы я это смогла!
Тут — только одно — "Портрет", — и Ника протянула пачку листков, — прочтите, и если рука не подымется их порвать — мне вернёте, я их порву.
Все время молчавший Евгений Евгеньевич поднял на нее глаза:
— Так вы их для меня — воплотили? Тем с большим вниманием прочту…
Была ночь, когда Евгений Евгеньевич раскрыл тетрадь Ники. На первой странице стояло:
СЮИТА НОЧНАЯ
И снова ночь! Прохладою летейской
Как сходен с кладбищем тюремный этот храм!
Не спит, как и всегда, в своей тоске библейской
Больная Ханна Хейм, химера с Нотр–Дам.
Латышки спят с угрюмыми горами,
Пригревши берег Греции у ног…
Панн гоголевских веют сны над нами. —
С китайской ножки соскользнул чулок…
То кисть художника, что Марафонской битвой
Огромное прославил полотно.
Химерою и я в своем углу молитвы
Бескрылые творю. Идут на дно,
Как в океан корабль порою сходит,
Что паруса развеял по ветрам, —
Ужели той, что спит, и в снов низинах бродит, —
Не помогу, Химера с Нотр–Дам?
Химера, да! Но с Нотр–Дам химера!
Молитвой как ключом — замки моих ключиц,
Луну ума гася светилом веры…
(Стыдись, о ум! Бескрылая химера!
Твой философский нос тупее клюва птиц.)
Летучей мышью, да! Но мышью‑то летучей!
Глаза смежив, чтоб не ожег их свет,
Крылом туда, где Феба вьются тучи, —
…Такой горы на этом свете нет,
Что не ушла бы вся, с вершиною, в Великий
И тихий космоса зелёный океан.
Ты спишь, мое дитя, в твоей тоске безликой
(И мнишь во сне, что истина — обман.)
Уснуло все. Ни вздоха и ни плача —
Миг совершенно смертной тишины.
Передрассветный сон. Я знаю, что он значит —
О мире и о воле снятся сны,
Сошли на дно души, как корабли, порою
Без сил смежив пустые паруса,
Спит смертным сном душа перед трубою
Архангела. А света полоса —
Звонок, подъем. Уже! О, как весенне,
Как победительно борение со сном,
Из мертвых к жизни вечной воскресенье,
О руки над кладбищенским холмом,
О трепет век и дрожь ресниц!
Туманы Над прахом тел развеялись. Земле конец.
Преображенье плоти. Крови колыханье —
То тронул холод мрамора своим дыханьем
Ты, Микел–Анджело божественный резец!
Дальше шла
СЮИТА ПРИЗРАЧНАЯ
Довоплощенное до своего предела
Граничит с призрачным, как Дантов ад.
Над небывалым зрелищем осиротелых
Жён, матерей — ночи тюремный чад.
(Являет чудо мне Чюрлениса палитры,
Храп хором Скрябинский зовёт оркестр,
Борьба за место — барельефы древней битвы
Во мраморе прославленный маэстр.
А бреды здесь и там — таят строку Гомера,
И Феогнида пафосом цветут
Изгибы тела — Ропс! И имена Бодлера
И Тихона Чурилина встают.
Когда ж, устав от зрелища, о хлебе
Молю, — на веки сходит легкий сон,
Я реки призрачные вижу в небе,
Я церкви горней слышу дальний звон…
О горькой жизни рок! Между землёй и небом
Разомкнуты начала и концы.
Как часто Сон и Явь в часы забвенья Феба
Меняют ощупью свои венцы!
Дальше шли города и воспоминания.
Есть такие города на этом свете, —
От названий их, как на луну мне выть:
Феодосии не расплести мне сети,
Ночь Архангельскую не забыть…
Далеки Парижа перламутры,
Темзы тот несбывшийся туман,
Да Таруса серебристым утром,
Коктебеля не залечишь ран…
И Владивостока нежная мне близость,
Где живёт мой самый милый друг…
Поезд замедляет ход, и в темно–сизом
Небе — о, как рассветает вдруг! —
То Иркутск. Тут Коля жил Миронов, —
Юности моей девятый вёл!
Как горит хрусталь крутых еловых склонов,
Раем распростерся твой Байкал!
* * *
Темная заря над Ангары разливом,
Да последний огонек в ночи,
Да холодный снег по прежде теплым нивам —
Это ль не символики ключи?
Крепко рассветает за моей решеткой,
Так мороз крепчает в январе,
То резец гравера линиею четкой
Ночи тьму приносит в дар заре…
Сколько раз вот так все это было, —
Я не сплю, вокруг дыханья тишь…
Что же сделать, чтоб оно не ныло —
Сердце глупое, доколе эти силы
Все до капли не перекричишь?..
А пока пишу — вино зари нектаром
Выси поит… огонек исчез.
Солнце выплывает легким жарким шаром
В сталактитовы моря небес!
Тетрадка кончалась надписью: "Из будущего сборника "Пес под луной" (лагерь)".