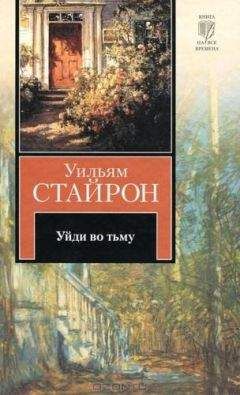Накануне, поздно вечером, когда Лука Семенович Лазебников собрался уже отходить ко сну, заявился запыхавшийся и возбужденный его доверенный стряпчий Ярыгин и, отирая градом катившийся пот, сказал одно только слово:
— Решено!
И вслед за тем выложил на стол список, в коем значились фамилии двух петербургских купцов, одного казанского и шести иркутских. Усмотрев в списке фамилию Жабинова, Лука Семенович нахмурился и после довольно продолжительного совещания с Ярыгиным сказал ему под конец:
— Действуй!
Ярыгина как ветром сдуло, а Лазебников снова уткнулся в оставленный стряпчим список.
Жабинов!.. С этим не договоришься… Если выйдет на торги, не отступится… Может, плюнуть на это дело?.. Нет, чтобы Лазебников Жабинову уступил — не бывало такого и не будет! А! Чем черт не шутит, когда бог спит! Вдруг да и вывезут Ярыжкины пельмени?..
Семеро купцов чинно усаживаются за стол. На одном торце Лазебников возвышается горою, тучный, краснолицый и скуластый, с окладистой, прошитой сединою бородой; на другом — Жабинов, по сухощавости выглядит он еще выше Лазебникова, и лицо у него сухое, нос не русский, тонкий с горбинкой, заметно, что его более коснулась цивилизация, взамен патриархальной бороды у него холеные чиновничьи бакенбарды чрезмерно темного цвета. Смотреть друг на друга не смотрят, но и из виду не упускают.
Остальные пятеро, с бородами всех цветов — от черного до сивого, — по обе стороны новдоль стола. Вполголоса переговариваются между, собой, не спуская глаз с двух главных воротил. Вокруг стола хлопочет Ярыгин, покрикивая на официантов.
Наконец все в ажуре. Бокалы наполнены. Официанты по знаку Ярыгина выходят.
Лазебнпков, с трудом вытаскивая из‑за стола свое тучное чрево, встает.
— Уважаемые господа!..
Но его перебивает Жабинов:
— Лука Семеныч! Довольно, что с тобой встретились. Уволь от повинности на холуя твоего смотреть.
Ярыгин, нимало не оскорбись, жестом удерживает доверителя своего от возражений и, обменявшись незаметным взглядом с высоким иконописного вида стариком с длинной седой бородой и побуревшей лысиной, что сидит справа от Жабинова, с достоинством удаляется.
— Уважаемые господа! — вновь возглашает Лазебников трубным голосом. — Надо быть, всем ведомо, что объявлены торги на продажу Николаевского завода…
— Кабы не ведомо, пошто бы ты пас звал? — говорит один из бородачей на ухо другому.
— …Завод один, а нас семеро, — продолжает Лазебников, — Да еще иногородние приплелись. Ну, они не в счет. Им с нами не тягаться. А вот нам не резон друг другу на пятки наступать. Порешили бы дело здесь полюбовно…
— Вишь, старая лиса, никак балычком откупиться хочет! — шепчет тот же бородач соседу.
— …Завод не стоит более той суммы, что заявлена на торги. И ежели мы цену набьем, то лишь к своей невыгоде. Стало быть, надо полюбовно.
— Ты первый отступаешься, Лука Семеныч, — с насмешкою бросает Жабинов.
— Пошто торопиться, Гордей Никитич, — на диво простодушно отвечает Лазебников. — У меня всего и дела, что торговлишка, не как у тебя, и городские хлопоты, и ссудная касса, и откупа. Соображаю, к чему тебе лишняя о|5уза?
— Благодарствую за заботу, Лука Семеныч.
Остальные пятеро молчат. Внимательно прислушиваются.
— Выпьем но единой, — говорит Лазебников, — сыт да пьян завсегда добрее, авось скорей договоримся. Ваше здоровье, дорогие гости!
Гости пьют и закусывают. Похваливают балычок. После второй начинается разговор вполголоса. После третьей — в полный голос.
Только Лазебников и Жабинов молчат, уступая друг другу очередь хода.
Наконец поднимается высокий старик с кирпичной лысиной.
— Уважаемые господа купечество! — говорит он, поглаживая сивую бороду. — Дозвольте по старшинству лет слово молвить.
— Говори, Зиновий Яковлич.
— Уважаемые господа купечество! — повторяет Зиновий Яковлевич. — Полюбовным уговором дела сего решить нельзя. Товар один, а купцов полна застолица. А ить пальцы‑то, — он протягивает жилистую растопыренную пятерню, — у каждого к себе гнутся.
— Вестимо! — кричат с обеих сторон стола.
— Стало быть, пусть бог решит. Ему виднее. Кому удачу, кому незадачу.
Лазебников хмурится. Видать, недоволен. Жабинов пристально всматривается в старика. Зато остальным предложение явно по душе. Теперь шансы выравниваются.
— Дело говоришь, Зиновий Яковлич!
— Как бог рассудит!
— Вот и выходит полюбовно!
Жабинов косит глазом на Лазебникова. Тот упорно молчит.
— Жребий предлагаешь, Зиновий Яковлич? — спрашивает Жабинов.
— Жребий, Гордей Никитич.
— Каким манером?
Сразу шум. Каждый кричит свое.
— Шары принесть!
— Раскинуть на картах!
— Семь горошин в шапку!
— Господа купечество! — обождав, пока стихнет шум, степенно говорит Зиновий Яковлевич. — Ить мы па обед пришли. Опосля балычка… — он уважительно кланяется Лазебникову, — хорош балычок, Лука Семеныч! Тает во рту! Опосля балычка самое время пельмешек отведать.
Он расстегивает кафтан и срезает ножом с жилета выпуклую бронзовую пуговицу. Затем наливает себе водки и бросает пуговицу в стакан.
— Чтобы не нобрезговали. Вот так, стало быть. Кому счастливый пельмень, тому и завод.
Жабинов смотрит на Лазебншсова. Тот пожимает плечами, как бы желая сказать: «Не за тем я вас звал, да против всех не пойдешь…»
Повар и три подручных поваренка защипывают пельмени. Купцы стоят тут же, смотрят. Все пришли на кухню, кроме Жабинова и Лазебникова. Эти сочли ниже своего достоинства.
На черных противнях белыми рядами комочки теста, начиненные мясом. И хотя пуговица еще в руках Зиновия Яковлевича и каждый пельмень на противне -— просто пельмень, кажутся они какими‑то особенными.
— Три сотни, — сообщает повар.
— И еще один. — Зиновий Яковлевич подает повару пуговицу.
Повар кладет пуговицу на ладонь и подбрасывает, словно определяет на вес.
— Поди, на много потянет?
— На четвертную, — без улыбки отвечает Зиновий Яковлевич.
— И то, — говорит повар, проворно защипывает счастливый пельмень и кладет его отдельно от прочих.
Теперь уже все смотрят только на этот пельмень.
— Вали в котел! — командует повар подручным и снимает с противня упрятанную в тесто пуговицу.
Начищенная до блеска медная кастрюля давно уже кипит на раскаленной плите. Белые шарики, срываясь с противня, один за другим скатываются в кипящую кастрюлю.
— А ну, давай, овечка, в стадо! — говорит повар и бросает туда же замаскированную пуговицу.
Сам хозяин ресторана, юркий и подвижный, беспрерывно подмаргивающий левым глазом, раскладывает пельмени по тарелкам. Потом наполняет бокалы и, отдав общий поклон, выходит.
Лазебников поднимает бокал.
— За счастливого!
От наваристого бульона исходит щекочущий ноздри вкусный запах. Пельмени у Гринберга, как всегда, на славу.
Но сегодня, кажется, никто не замечает их вкуса. Едят с деловитой сосредоточенностью, каждый на свой манер.
Самый молодой из всех, прикренистый с коротко подстриженной черной бородой, ест торопливо, обжигаясь горячим бульоном, не успевая прожевывать, следя, лишь бы примять зубом, — не дай бог, проскочит в утробу заветная пуговица. А сосед его, похожий на монгола с темными раскосыми глазами, напротив, ест осторожненько, по одному пельменю, предварительно придавливая каждый в тарелке ложкою.
Жабинов и Лазебников больше смотрят друг на друга, нежели в тарелки, едят медленно, как бы пережидая один другого, Лазебников, положив пельмень в рот, тут же прикусывает хлеба.
— Маловато заказал, на хлеб налегаешь, — язвит Жабинов.
— По–хрестьянски, — отвечает Лазебников, — шло покойный родитель мой наказывал: мясо без хлеба не ешь!
И только высокий старик с коричневой лысиной, приправив блюдо перчиком и уксусом, ест со смаком и удовольствием. Время от времени он, не дожидаясь общего госта, наливает себе водки, выпивает й, вкусно крякнув, закусывает дымящимся в ложке пельменем.
Молодой чернобородый купец первым съедает свою порцию. Какое‑то время тупо смотрит в тарелку, потом заглядывает в пустую фарфоровую супницу, стоящую посреди стола. И вдруг хватает тарелку и что есть силы швыряет в высокое, почти до потолка, зеркало в простенке. Промахивается. Тарелка попадает в бархатную штору, которою задернуто окно, падает на пол и разлетается на куски.
— Так твою… — хрипит чернобородый, — и тут сорвалось! — и жадными, налитыми кровью глазами шарит по чужим тарелкам.
Вторым отодвигает тарелку Зиновий Яковлевич.
— На все воля господня! — говорит он, истово перекрестившись, и наливает себе бокал золотистой мадеры.
Один за другим еще трое, кто с шуткой, кто с проклятием, присоединяются в компанию неудачников.