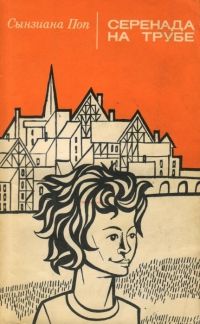— Я уйду на минуту, Манана, познакомиться с пастухом, я встречалась с ним каждый день. Не годится уехать, даже не сказав ему «до свидания».
— Дело твое, — сказала Манана, — но знаешь, немец–механик запустил канатную дорогу специально для нас, и я не могу просить его еще раз запускать мотор.
— Я тоже не могу, — сказала я, — и мне очень жаль, поезжай одна.
И я вернулась на свое обычное место в лесу и потом по колокольчикам отыскала пастуха. Он лежал на меховой бурке и спал.
— Добрый день, — сказала я. — Добрый день в первый и последний раз. Я очень вам благодарна.
— Не стоит, — сказал пастух, и, хотя он был старый человек, тем не менее он поцеловал мне руку.
— Зови, пожалуйста, иногда своих овец, — попросила я его. — Мутер очень одинока.
— Как же, как же, — сказал он и снова заснул.
— Спи, спи, — сказал мальчик Пипэл. — Поспи еще немного. Сон тебе поможет.
Я вернулась к канатной дороге, но Манана уже уехала, люлька, в которую она забралась со своими двумя чемоданами, миновала первый металлический столб и теперь слегка покачивалась влево–вправо. Я очень попросила механика отправить и меня, и, хотя он поворчал, мол, слишком уж это жирно, пускать канатную дорогу для двух пассажиров, у которых к тому же нет денег на билеты, я уселась в люльку и понеслась над пропастью; она начиналась сразу за площадкой.
— Между прочим, вы можете взять на чердаке цимбалы, — закричала я, — и велосипед, я не думаю, что мы вернемся, господин Ваннер.
— Возьму, возьму, не песпокойсь! — крикнул господин Ваннер и приветствовал меня, приложив руку к козырьку немецкой фуражки.
— Господи боже мой, у этой канатной дороги скорость, что у погребальной процессии, — сказала я Пипэлу, потому что он массировал мне виски. — Можно, я посплю здесь, на твоих коленях?
— Спи, — сказал он, — мне нравится с тобой сидеть. Да у меня и нет лучшего занятия.
— Ладно, как хочешь, но мы опоздаем в школу.
— Какая там школа, — сказал он, — уже без четверти шесть, ха–ха, все давным–давно кончилось.
— Меня укачивает, когда я еду вниз, — сказала я. — А пейзаж отсюда очень красивый. Видишь, вон деревни, и поле, и голубое озеро?
— Ага, — сказал он, — очень красиво.
На поляне Руйя я увидела всех остальных, они сидели по–турецки, с рупорами в руках. Меня они вначале не заметили, но потом именно я ухватила Командора.
— Манана, что делать, оставим их в покое! — крикнула я, но Манана не ответила, теперь, сидя в одиночестве, она, думаю, плакала вволю, все–таки она была мать Мутер.
— Я тебя убью, — сказала я Командору, — ты вел себя с нами как собака. Со мной наплевать, но с Мананой… Она же твоя мать, подлец… Посмотри, как она плачет, ты видишь?
И я показала ему на Манану, которая как раз в тот момент скользила по стальному тросу в люльке канатной дороги над поляной.
— Если бы не твой омерзительный нос, я плюнула бы тебе прямо в лицо. Но мне страшно взглянуть на тебя, я вижу только твои тонкие ноги, всунутые в тапочки, и каждый раз холодею, вспоминая, как ты таскаешься по Каменному дому.
— Не беспокойся, — сказал мальчик Пипэл, — я здесь, все в порядке.
— Еще долго? — спросила я.
— Нет, пять столбов, и все.
Манана со своими чемоданами сидела в камере хранения. Мы примерно с час прождали машину, и за все это время она никак себя не проявила, а когда приехал гусеничный трактор, который доставил нас потом в город, она потеряла себя окончательно, и с того момента, как я поставила чемоданы и свой рюкзак перед воротами Каменного дома, она онемела, и мне самой потом пришлось говорить с Командором и рассказывать ему, что случилось.
— Ну? — сказал Командор.
— Ничего, это все.
— Не уходи, ты больше не вернешься, — сказала Манана, и это были последние ее слова, которые я слышала. Потом она помогала Эржи по хозяйству, но я никогда не слышала, чтобы она говорила. Она работала как зверь и свистела, а потом, когда превратилась в мешок с картошкой, свистела и лежала в базарной тележке. Когда мы ходили с Эржи за покупками, то брали ее с собой и прогуливали по городу, хотя толкать тележку на гору и по немощеным улицам было очень трудно. Но она так хорошо себя чувствовала среди пучков спаржи и петрушки, что, какую бы муку мне ни пришлось принять, толкая ее в гору, я все равно всегда брала ее в такие походы на рынок. И единственным отклонением от порядка Каменного дома было ее исчезновение с полицейским Леонардом, но это произошло через неделю после нашего приезда с гор.
— Будь благоразумен, Малыш, сумасшедшая тебя убьет! — крикнула тетя Алис. Она стояла наверху, на лестничной площадке, и все слышала.
— Ее можно спасти, — просила я. — Положите ее в больницу.
— Эту чувствительную шлюху?! — сказал Командор и медленно заковылял по дому. — У тебя нет матери, с сегодняшнего дня все кончено. Я слышать о ней не хочу.
— Вот почему я его убью, теперь ты понимаешь? — спросила я мальчика Пипэла, и он сказал:
— О господи, ты убила его уже дважды.
— Он задохнется у меня под рупором, — сказала я, — вот смотри.
— В рупоре есть дырка, видишь?
— Я заткну ее рукой.
— Рупор слишком мал для его головы.
— Позови Шефа. Он все устроит.
— Кого?
— Шефа. Он на кладбище у Мананы.
— Манана умерла? — спросил Пипэл.
— Сегодня утром. Я оставила ее у окна.
— О бедняга, — сказал Пипэл и опустил голову на колени. — Я очень ее любил. Теперь я тебя люблю, что мне остается делать?
— Выйдем из круга, — сказала я, — хватит с меня этих идиотов. Командора уберет Шеф.
— Ладно, — сказал он, — пошли. Ты думай о зеленом. Это самый лучший цвет на земле.
— Ты посмотри, — сказала я, — какая зеленая лужайка. — И мы стали прогуливаться по сочной траве, и у мальчика Пипэла была розовая рубаха в клетку.
— У тебя розовая рубаха в клетку? — спросила я.
— А ты получше приглядись, — сказал он, — может быть, придешь в себя.
— Розовая в клетку, — повторила я.
— Красная в клетку, — сказал он.
— О, как жалко, то больше шло к зеленому.
— Да, — сказал Пипэл, — но ничего не поделаешь, эта рубаха красная. Слава богу, что ты пришла в себя. Я уже почти час тебя стерегу.
У Пипэла была красная рубаха и красивые зубы. И прямой, отрезвляющий взгляд.
— Пей, — сказал он и подал мне оранжад, потому что он продавал напитки на бульваре.
Я поднялась с его колен и увидела, что мы сидим на каких–то ступеньках и он за последние полчаса ничего не продал. Тележка с прохладительными напитками была пригнана к стене, а зонт от солнца свернут.
— Ты был там, на переговорном пункте? — спросила я.
— Да, — сказал он, — и эта старая дура так и не вернулась.
— Был большой скандал?
— Не очень, я взял тебя на руки и принес сюда.
— На руках?
— Ага.
— Да что ты говоришь? А сколько стоит этот оранжад?
— Не глупи, — сказал он.
— Я спросила, сколько он стоит, — повторила я.
— Послушай, — сказал он, — у тебя на самом деле нет ни номера телефона, ни адреса, ну, совсем ничего и никого нет?
— Да ты что, что ты такое говоришь? — закричала я и вскочила на ноги. Я дочь министра иностранных дел, если хочешь знать, можешь спросить на почте. А теперь — привет! Вознаграждение получишь на том свете!
Мне страшно хотелось есть, и я вошла в первую же пирожковую на площади Ратуши. За пять лей я купила две лепешки с сыром и вышла, решив съесть их на улице за одним из столов, расположенных на тротуаре.
Площадь Ратуши была прямоугольная, и каждое лето и осень большие рестораны, кафе и пивные с барами обслуживали клиентов на улице, прямо на тротуаре, и единственное различие их было в цвете мебели, в характере букв на вывеске и в одежде официантов; те, что из «Лютера», подавали в белом пиджаке и во фрачных брюках, а из «Трансильвании» выглядели настоящими юнкерами прусской армии. В «Сан — Сальвадоре» каждый вечер играл эстрадный оркестр, но самым привлекательным зрелищем были стаи голубей, взлетавших по временам с асфальта на высокую башню Ратуши и потом — назад; они проносились над артезианским колодцем, и он окроплял их водой. Единственным неприятным заведением была пивная, в которой исчезали мужчины по утрам в одиннадцать часов: это были чаще люди свободных профессий, нажившие брюшко в пивных дуэлях. Они устраивали настоящие чемпионаты по вливанию пива в желудок, но, если бы не то, что все это кончалось пьяным дебошем (эти типы фальшиво подвывали, а потом мочились у стен Ратуши), не о чем было бы и говорить. А мы–то в школе жертвовали каждый год по лею на сохранение древних памятников, и Башня Ратуши была, конечно, среди них.