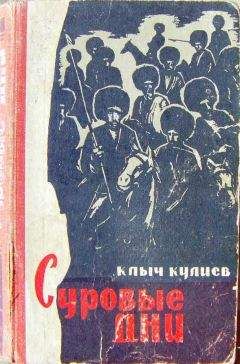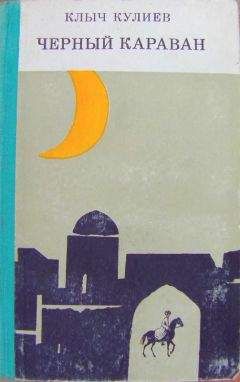— Караджа-батыр, ты ли это?! Что ты здесь делает в таком виде?.. Бай-бов![88]
Как ни странно, люди проявили очень сдержанное сочувствие к бедственному положению своего односельчанина. Некоторые высказывали даже откровенно язвительные замечания. Видимо, многие в глубине души очень неприязненно относились к Карадже из-за его постоянной готовности бежать с вестью к Адна-сердару. Повесив нос, стоял и Чары, чувствующий, что теперь ему вообще не пройти по селу от насмешек. А Мяти-пальван все допытывался:
— Как ты в таком положении очутился, Караджа-батыр? Ну, не лежи ты колодой, отвечай, когда спрашивают!..
Тот самый парень, который заставил Чары вести всех к оврагу, недружелюбно засмеялся и посоветовал:
— Не трогайте его, Мяти-ага, пускай лежит! Давайте кинем на него пару лопат песку и уйдем!
— Пяхей, — отозвался второй насмешник, — зачем закапывать? Пускай так лежит — интереснее!
Тогда Караджа впервые поднял голову и, размазывая по щекам слезы и грязь, свирепо гаркнул:
— Идите ко всем чертям отсюда!
— Ого! — удивился первый парень. — Грозишь? Ладно, давай халат, и мы пойдем к чертям! — И он сорвал с Караджи халат.
В толпе послышались смешки, Караджа скорчился, затравленно поглядывая по сторонам. Кажется, только сейчас он почувствовал то отчуждение, которое возникло между ним и односельчанами. И раньше ему приходилось терпеть за это насмешки, а иной раз кое-что и посущественней, но он считал это проявлением неприязни отдельных людей и злился, пытался мстить доступными ему способами, как сделал это, например, с Анна-Коротышкой за то, что тот однажды подшутил над ним в компании.
Сейчас Караджа увидел настолько единодушное презрение со стороны почти всех односельчан, что это вызывало уже не злость, а страх. Он вспомнил почему-то, как восприняли люди весть о пленении Адна-сердара, и ему захотелось тоскливо завыть.
Мяти-пальван отобрал у парня халат, вновь накинул его на Караджу и строго сказал:
— Довольно, парни! Пошли-ка по домам, а он тут сам управится. — Однако строгости надолго не хватило, и Мяти-пальван, улыбаясь в усы, добавил — Караджа-батыр, как добрый человек, видно, пообещал уже за свое освобождение в жертву аллаху одну овцу. Пойдемте освежуем ее и устроим хороший той.
Люди, особенно молодежь, дружно подхватили предложение Мяти-пальвана. Однако общее согласие нарушил истерический женский крик: какая-то женщина бежала от аула к оврагу, за ней вдали поспешал еще кто-то. Узнав в бегущей Садап, люди остановились в изумлении, а Караджа съежился еще больше, словно каждое проклятие, вылетающее из уст Садап, било его, как камень.
— Вах, чтоб ты не лежал в своей могиле! — вопила между тем приближающаяся Садап. — Чтоб сгорел твой труп!.. Чтоб тебя аллах покарал!..
— Что случилось, Садап-гелин? — вышел ей навстречу Мяти-пальван. — Кого ты так проклинаешь? Да успокойся ты!
Садап крикнула:
— Честь нашу опозорил этот негодяй!
Послышались недоуменные голоса:
— Кто опозорил?
— Что случилось?
— Кто же еще, как не этот не нашедший пристанища бесчестный кобель! — надрывалась Садап. — Вай-эй, братья, опозорил он нас!..
— Ты не вопи без толку! — строго потребовал Мяти-пальван. — Понятнее скажи, кто он такой!
— Тархан, чтоб его труп сгорел, — вот кто!.. О аллах милосердный!..
— Он что — обругал тебя, избил или как? — допытывался еще более посуровевший Мяти-пальван.
— Увез с собой эту бесстыдницу Лейлу!.. Вай, братья, садитесь на коней, если вы мужчины!.. Они не успели ускакать далеко — догоните их, живыми в землю заройте! Вах, был бы дома сердар!..
Никто не отозвался, и Садап накинулась на окружающих.
— Что вы стоите, люди? Где ваше мужество?.. Да разве вы гоклены! Какой-то безродный пришелец топчет вашу честь, а вы раздумываете!.. Вах, несчастная я!.. Кому пожаловаться мне, к кому обратиться?.. О боже мой!..
Человек, двигавшийся вслед за Садап, оказался Шаллы-ахуном. Он подошел, кинул быстрый подозрительный взгляд на куст гребенчука, отвернулся и воскликнул, потрясая сухими ручками:
— О харамзаде! О проклятый! Сердар любил его, как сына, а он отплатил такой неблагодарностью… О поруганный аллахом!..
Ему казалось, что он ругает Тархана, на самом же деле его проклятия скорее относились к Карадже, которого он узнал и клял за свой недавний страх, так не приличествующий духовному лицу. И кумгана вдобавок не видно — либо затоптали в землю, либо утащили. А кто виноват? Опять тот же нечестивец Караджа!
Обратившись к Мяти-пальвану, ахун жалостливым тоном провещал:
— Мяти! Честь сердара — наша общая честь! Не дадим растоптать ее нищему бродяге! Надо быстрее людям садиться на коней, надо догнать его и примерно наказать!.. Как ты думаешь, Мяти?
Мяти-пальван не был сторонником нарушений закона или обычаев, но в душе он одобрял поступок Тархана. Будучи человеком добрым и справедливым, не один раз искренне жалел несчастную Лейлу, однако помочь ей ничем не мог да и, честно говоря, не стал бы вмешиваться в чужую семейную жизнь. Но вот на это решился другой, и старый Мяти в душе говорил ему: «Молодец!»
Так что же теперь ответить ахуну? Сказать, что Тархан поступил, как настоящий мужчина, — нельзя. С одной стороны, нет смысла настраивать против себя сердара, с другой — это было бы несолидно в устах такого яшули, как Мяти-пальван, и наконец громогласное признание правоты беглецов вряд ли окажет им сейчас существенную помощь. Поэтому Мяти-пальван помолчал для важности, погладил бороду и согласился с ахуном.
— Думаю так же, как и вы, таксир… Честь топтать не позволено никому. Сейчас мы пошлем в дорогу четыре-пять всадников.
Шаллы-ахун торопливо благословил:
— Молодцы! Доброго пути вам! Удачи!..
Несколько мгновений он молчал, борясь с собой, но скопидомство победило трезвый расчет и осторожность, и Шаллы-ахун не очень уверенно спросил, обращаясь к людям:
— Тут, сынки, кумган должен был лежать… Может, кто из вас поднял нечаянно?..
Глава шестнадцатая
ОГОНЬ РАЗГОРАЕТСЯ
Поблизости от походного шатра Абдулмеджит-хана, Еозле которого у двух пушек стояли навытяжку четверо часовых, черными мазарами темнели несколько шатров поменьше. Шагах в пятидесяти от них, занимая обширную площадь вокруг, располагались шалаши сарбазов, сделанные из веток деревьев и кустарников. Так оно и должно быть: темнику[89]— свое место, юзбаши — свое, сарбазу — свое.
Довольные удачным началом военных действий, а еще больше — неожиданным отдыхом, сарбазы оживленно сновали среди своих шалашей. Одни кормили коней, другие чинили и проветривали одежду, третьи чистили оружие, четвертые пили чай, пятые просто нежились на солнышке да вели неспешный разговор.
Возле ханского шатра суетились трое сарбазов. Один из них готовил еду, другой кипятил воду для чая, третий, раздув кальян, ожидал зова хана. Собственно, ждали все трое, однако хан безмолвствовал.
Уже два дня конница Абдулмеджит-хана стояла здесь, ожидая приказа хакима. После разгрома туркменских джигитов в Ак-Кале, овладев крепостью, Абдулмеджит-хан отправил основную часть своего войска — пеших сарбазов — по северному берегу реки, а сам с конниками двинулся по южному. Не задержи их хаким Ифтихар-хан на полпути, они уже с двух сторон ударили бы на Куммет-Хауз.
Конечно, хаким принял свое решение не спроста, для этого есть, видимо, достаточно серьезная причина. Однако Абдулмеджит-хан имел все основания быть недовольным задержкой. Будь его воля, он сходу разгромил бы Куммет-Хауз. Однако приказ есть приказ, и хан остановил своего коня в Гямишли — как раз на полпути между Ак-Кала и Куммет-Хаузом. Он ждал человека, посланного хакимом для переговоров с Эмин-ахуном, владыкой Куммет-Хауза.
Подсовывая подушки то под правый бок, то под левый, Абдулмеджит-хан томился ожиданием и размышлял, что хорошо бы, плюнув на все запреты, ударить по Куммет-Хаузу — все равно от этой лисицы Эмина толку не будет, зря хаким питает какие-то надежды. А новая победа вот как нужна Абдулмеджит-хану! Конечно, взятие Ак-Кала уже создало ему известность, но хан, человек неглупый, прекрасно понимал, насколько все это непрочно. Ведь Ак-Кала была давно уже лишена своих неприступных стен и грозную известность ее поддерживало лишь название крепости. А вот когда он захватит Куммет-Хауз и заставит покориться всех туркмен, слава о нем может докатиться до самого Тегерана.
В шатер заглянул нукер.
— Простите, ваше превосходительство… Прибыл Борджак-бай.
— Зови его сюда! — оживился Абдулмеджит-хан. — А людей его отведите к кому-нибудь из сотников, дайте чаю, накормите.
— Бе нишим!
— Обед готов?
— Готов. Подавать?
— Глупец! Сначала кальян подай, чай подай — обед потом! Быстро!
— Бе чишим!