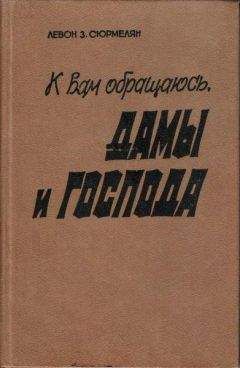Глава двадцать пятая
СЕМЬ СЕДЫХ ВОЛОСКОВ
Сегодня утром, бреясь перед зеркалом в ванной, я обнаружил на правом виске блестящий белый волос. Поискав, я нашел ещё шесть на левом. Думаю, что есть и другие, но эти семь я увидел отчётливо — осязаемые узы, связывающие мою судьбу с прошедшими семью тысячами лет.
— Чёрт бы меня побрал! — сказал я себе.
Значит, седею, значит старею. Первые признаки наступающей зимы…
Я стоял перед зеркалом, подавленный этим открытием, затем пристально вглядевшись в себя, увидел за жёсткой щетиной бороды свежее, гладкое, с открытым мечтательным взором лицо юноши, и как странно, подумал я, что у меня борода и седые волосы. Что такое время? Ведь только вчера я приехал в Америку, а кажется — много веков назад. И сегодня, через столько бесконечных лет до и после моего паломничества в Новый Свет, который буквально таким и был для меня, этот мир на другой планете, мне хочется только вернуть обратно то изумление и восторг, с которым я впервые ощутил извечное чудо жизни — чудо дней и времён года, ветра и дождя, солнца и звёзд.
Я много размышлял о великом таинстве жизни и смерти. И этим утром, увидев седые волосы на голове, мне захотелось стать ребёнком, каким я когда-то был, и так всё время, до тех пор, пока закончится мой жизненный путь. Кто знает, может, я его закончу с японской пулей в груди, или же подорвусь на немецкой мине. Тем ребёнком, каким я был в Трапезунде, белом городе с красными крышами на берегу Чёрного моря, городе, которого больше нет, и который, тем не менее, будет жить вечно. Детьми мы все были замечательными и похожими друг на друга. Жили одинаково праведной жизнью и говорили на одном и том же праведном языке, хоть и звучание слов было иным. В детях весь мир един. И истинные поэты и философы, святые и герои всех времён, везде, в Канзасе или Трапезунде, в Номе или Ла-Плате, Типперери или Хенгчоу, — всегда оставались детьми. Детьми мы достойны общества богов. А сейчас даже самому лучшему среди нас, самому преуспевающему, я могу сказать только — смотри на себя, брат, смотри и плачь.
Я хочу жить как ребёнок каждый день, час, каждое мгновение — и не быть ограниченным пространством и временем, логикой и географией, народами и историей. Я хочу быть, а не иметь. Ибо быть — значит иметь всё. Я хочу быть похожим на яблоню, которая приносит плоды без труда, на красный цветок, растущий в поле, хочу быть чашею для солнца. Хочу быть похожим на шафран, цветущий ранней весной после ледяных ветров и унылого безрадостного одиночества зимы, хочу быть полным бодрости и оптимизма. Цветы не неудачники. Они не разочаровываются, не ожесточаются, они умеют жить. Это истинные успехи, они умеют жить по-настоящему, жить безмятежно.
Ибо если вся наша жизнь, все наши усилия и труды, счастье, любовь и знания должны увенчаться смертью, и если смерть — последний господствующий монарх наших жизней, если каждая победа и поражение, каждый выигрыш и проигрыш, всякая услада души и тела, каждая прочитанная и написанная книга, каждый увиденный закат и посаженное дерево ещё больше приближают нас к бесповоротной участи, всё равно день остаётся днём, час — часом, мгновение — мгновением, как бы много или мало мы ни жили.
И смерть лучше вина, лучше философии. Она — прекрасный возбудитель, и её сознание подобно прозрачному абсенту, согревающему нас изнутри. Могу сказать за себя, что никогда лучше и мудрей не жил, никогда ясней не видел окружающее и не получал от него большего удовольствия, пока не столкнулся со смертью лицом к лицу. Ибо тогда с мира упала завеса, и всё выступило отчётливо и рельефно, в истинном свете. Земля стала более земной. Море более похожим на море. Деревья более похожими на деревья. Я увидел, услышал, почувствовал запахи, потрогал и вспомнил всё с совершенной чёткостью.
И, помня о смерти, я должен быть смиренным. И сильным. Совершенно непобедимым. Такое смирение — прямой путь к миру, к радостям жизни.
Я хочу, сказал я себе, снова ощутить нескончаемые чудеса земли, всеобъемлющей, всеисцеляющей и созидающей матери-земли, щедро дарующей и принимающей напоследок то, из чего сделаны мы все, хорошие и плохие, великие и ничтожные. Мать-земля добра везде, луна и звёзды в Америке те же, что на моей родине, и они те же для всех детей повсюду, впрочем, взрослые их забывают. Солнце и дождь, утро и ночь здесь такие же, как в призрачных краях моего непреходящего прошлого.
Не принимать жизнь как должное и всегда помнить о смерти, познать её цену, как я познал это в детстве, — в этом отныне моя цель, говорил я себе, стоя перед зеркалом, пристально рассматривая седые волосы, первые признаки наступающей зимы.
У птицы времени всего лишь один выход —
Махать крыльями — и вот она в полёте.
Вспоминая эти строки, я говорю себе: нужно торопиться, нужно торопиться и начать жизнь снова, пока не слишком поздно. Мне нужно снова стать таким же сильным и совершенным, как тот мальчик, который смотрел на меня из-под моей щетины. Отныне, твёрдо решил я, что бы ни случилось, я стану жить, как ребёнок, — поеду в деревню, лягу на траву и стану вдыхать запах земли и зароюсь носом в благоухающие полевые цветы. Клянусь богом, говорил я, я позволю этим своим милым старым друзьям, красным жукам с блестящими чёрными пятнышками на спинке, ползать по мне, когда буду лежать под солнечными лучами, падающими на мои воздушные покои сквозь колючие кусты, и слушать, как дрозды играют коротенькие нотки на своих флейтах. Затем встану и босыми ногами побегу по прохладной траве, обниму деревья, как давно потерянных возлюбленных и, закатав брюки, перейду ручей вброд. Я найду иву и вырежу из её веток свистульки, побегу за бабочками и жуками-светляками, соберу безымянные полевые цветы.
Потом я спущусь к морю — прислушаюсь к шуму волн и буду смотреть, как они бегут к берегу, словно белые лошадки, тряся гривой, — как они это делали в Трапезунде. Буду смотреть, как заходит солнце, большой объятый пламенем галеон, и как луна прорезает в тёмных водах золотистую просеку.
Если бы мне удалось снова проделать всё это вместе с простой девушкой, которая разделит со мной потребность в земле и море, будет испытывать такой же восторг, бегая босиком по траве и мокрому песку, тогда я несомненно буду Счастливцем, богаче самого богатого человека, мудрее всех тех, что позабыли обо всём этом. А по ночам мы будем спать под небом, трепещущим от звёзд.
Возможно, после этой войны народы мира, помня о смерти, станут жить мирной жизнью, полной достоинства и мудрости, став в душе детьми. Это моё искреннее пожелание и моя надежда.
Этот прекрасный мир возрождается в детях. В них удивительно воскресает род человеческий. Душа ребёнка подобна шафрану, цветущему на солнце. В этом заключается тайна того мира-государства, о котором мы слышали, читали и думали. Ибо братство людей вновь станет свершившимся фактом, когда мы опять станем детьми, и наше окончательное освобождение состоится, когда мы обретём тот мир, которым владели, когда были детьми.
(предисловие автора к армянскому изданию ԼԵՎՈՆ ԶԱՎԵՆ ՍՅՈՒՐՄԵԼՅԱՆ. Ձեզ էմ դիմում, տիկնայք և պարոնայք: վեպ)
«Помните нас!» — воскликнула моя тётушка Азнив, и это были её последние слова, когда жандармы разлучили нас в Джевизлике и заставили женщин прошествовать к смерти. «Помните нас!» — говорили, казалось, все эти женщины, в то время как мы столпились в одну кучу перед каким-то «ханом» и ожидали, когда придут турки этой местности и заберут нас в свои сёла, переименуют нас в Гасана, Мехмеда, Сулеймана и вырастят как благочестивых, обрезанных турок, как людей, которым возбраняется помнить прошлое. Наверное, мы были настолько неоперившимися, что и не помнили бы ничего. Ни один армянин, способный что-либо помнить, не должен был оставаться в живых.
Вот уже более полувека мы, пережившие те дни, вспоминаем о них, ещё не придя в себя, не будучи в состоянии осознать случившееся или говорить о нём. Я не осмеливаюсь даже задумываться об этом. Для тех, кто не оказался жертвой этого почти смертельного удара, нанесённого нашему национальному существованию, слишком больно переживать прошлое, а потрясение всё ещё продолжается. Правда, я написал эту книгу, однако сумел дать лишь отрывочное, частичное представление об этих днях — когда в качестве проживающего в Америке совершеннолетнего человека я оказался в состоянии высказаться более определённо, более предметно. На протяжении всего времени, когда писал эту книгу, я носил чёрные очки и делал вид, что мои глаза воспаляются от яркого солнца Калифорнии; причём, я поступал так не только на открытом воздухе, чтобы скрыть слёзы. «Врач посоветовал», — бормотал я.
На самом деле я не плакал. Тот мальчуган, который перенёс столь ужасное бедствие, ходил с высоко поднятой головой, он был «смелым армянским воином», и я всё ещё продолжал играть воина. Был невозмутимым и хладнокровным. Отчуждённым и самоотчуждённым. Казалось, писал не я, а кто-то другой, какая-то холодная моя частица, настолько холодная, что я уже не мог её ощущать.