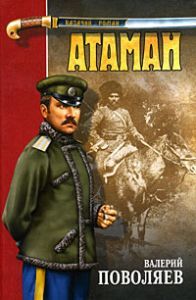— Настоящий солдат должен познать все — и мороз, и жару, а уж по части, где переспать, должен пройти все огни и воды.
— Уж лучше решать вопрос, с кем переспать, а не где, ваше благородие. — Это был Белов, такие шуточки мог отпускать только он.
Белов дробно, по-синичьи, рассмеялся.
Сотник неопределенно мотнул головой — не понять, поддерживает он Белова или нет, хотя глаза у него на мгновение сделались жесткими. Впрочем, на поверхность ничего не выплыло, сотник сдержал себя — язык ведь без костей, что хочет, то и мелет, — и произнес добродушным тоном:
— И такое в нашей жизни обязательно будет. Доживем и до этого.
— Доживем до понедельника, ваше благородие, а там, глядишь, хлеб подешевеет, — пробормотал Белов угасающим голосом, натянул на голову бурку и уснул.
Утром снова начали месить мерзлую грязь на тыловых дорогах, но безуспешно — то ли немцы успели предупредить своих о шальных казаках, прочесывающих тылы, то ли произошло еще что-то, Семенов, покрякав от досады, подкрутил усы и решил возвращаться в полк, всего несколько дней назад осевший в Сахоцине — зеленом местечке, богатом цирульнями, плохим виноградным вином, голенастыми крутобедрыми девками и черствым хлебом, который местные пекари готовили с добавлением картошки и мелко смолотой кукурузы.
— Задание мы выполнили еще вчера, — справедливо рассудил Семенов, — пора и честь знать.
День прошел быстро, попасть в Сахоцин засветло не удалось, и Семенов решил заночевать в маленькой, черной, словно насквозь прокопченной дымом, измазанной сажей деревушке. Чумаза деревушка была настолько, что невольно думалось — а не живут ли тут ведьмы, у которых метлы работают на смеси дегтя с мазутом? До Сахоцина осталось идти совсем немного — пятнадцать верст, но в темноте решили не рисковать, иначе кони останутся без ног.
Ночь хоть и была ветреной, темной, с низкими удушливыми облаками, а прошла спокойно, утро наступило серое, какое-то беспросветное, лишенное не только радости и броских красок, но даже свежего воздуха. Откуда-то издалека понизу полз вонючий, пахнущий незнакомой химией дым. Словно где-то горела фармацевтическая фабрика.
Было тихо. Только на западе, километрах в пяти от деревеньки, грохотало одинокое орудие, раз за разом посылая в невидимую цель снаряды. Семенов, приложив ладонь ковшом к уху, прислушался к орудийным ударам: наша пушка или немецкая?
Определял он это по неким неведомым приметам, и когда у него спрашивали, в чем разгадка, лишь смеялся в ответ да произносил одну и ту же фразу:
— Не знаю.
Он действительно не знал, чем отличается звук немецкого орудия от нашенской лихой пальбы — выстрелы были похожи, будто близнецы, и в то же время какое-то различие между ними было, Семенов угадывал это различие интуитивно, на подсознательном уровне, но словами описать это не мог.
— Наше орудие лупит, — прислушавшись к далеким ударам, вынес вердикт сотник. — Только чего оно так далеко делает? Там же немцы.
— Может, пока мы мотались по разным Остатним Грошам, карта фронта перекроилась? — предположил Белов.
— Может, и перекроилась. — Семенов резким движением . подтянул подпругу на седле и в ту же секунду ловко взлетел на коня. Скомандовал тихо, словно только для самого себя: — Уходим.
— А как же, ваше благородие, с завтраком быть? — спросил сотника казак с черными, блестящими, как у таежной птицы, глазами, теряющимися в длинных лохмах бараньей папахи. Фамилия его была Никифоров, в полк он прибыл из-под Хабаровска, из маленького железнодорожного городка под названием Алексеевск, имеющего узловое значение; городок так был назван в честь наследника престола[7], юного цесаревича. Семенов Никифорова приметил, как приметил и Белова: эти казаки, несмотря на некий мусор в голове, — надежные.
— Что, Никифоров, на яишню потянуло?
— Потянуло, — не стал скрывать тот.
— В Сахоцине твою яишню и съедим, — сказал Семенов.
Но позавтракать в Сахоцине не удалось. Едва подъехали к этому маленькому городку, украшенному высокими голыми тополями, как услышали длинную пулеметную очередь, за ней — несколько винтовочных хлопков. Сотник немедленно вздыбил коня, предупреждающе поднял руку:
— Стой, казаки!
Стрельба ему не понравилась. Казачий полк — это серьезная боевая единица, с которой не рискует связываться даже целая немецкая днвизия, и если кто-то позволил себе напасть на Сахоцин, то, значит, напал крупными силами.
Раздалось еще несколько винтовочных хлопков. Кто может позволить себе стрельбу в городке, занятом казаками? Может, перепившие офицеры? Послышалось еще несколько выстрелов. Семенов вскинул к глазам бинокль — немецкий, снятый с убитого артиллерийского обер-лейтенанта; в России приличные военные бинокли не производили, и факт этот каждый раз, когда сотник брался за бинокль, рождал у него ощущение досады — не хотелось пользоваться немецким.
Сильные линзы позволили отчетливо видеть разбегающихся людей. Вот один бородатый солдат в обмотках лихо перемахнул через высокую изгородь из колючих кустов, вознесся над другой колючей грядой, но, подбитый пулей, упал на нее. Рука свесилась с жесткого куста, энергично заработала клешнястыми пальцами.
Это была атония. Бородатый солдат умирал.
«В городе немцы! — у Семенова от одной только этой мысли невольно зачесались кулаки. — Откуда они здесь?» Новость была неприятной. Пока казаки прочесывали немецкие тылы, германцы неплохо поработали в тылах наших.
Вот в окуляр попал всадник — из городка, отчаянно размахивая руками на скаку, несся одинокий казак. Вдогонку ему хлобыстнула винтовка. Потом ударила еще раз. Семенов выругался и ударил коня плеткой, тот, бедняга, едва не застонал от боли. Сотник пришпорил его и понесся навстречу одинокому всаднику — показалось, что за ним сейчас устремится погоня и ее надо будет отсечь. Но погони не было.
Увидев впереди казачий разъезд, всадник свернул к нему. Сотник вновь вскинул бинокль, чтобы получше разглядеть этого расхристанного, без фуражки и пояса, человека и невольно вздрогнул — это был его собственный денщик Чупров. И конь, на котором скакал Чупров, был также хорошо знаком сотнику — это был его личный конь, чистокровный норовистый жеребец. Вряд ли этого коня могли догнать короткохвостые немецкие битюги.
— Стой, Чупров! — издали закричал денщику сотник. — Стой!
Но Чупров ничего не слышал — ветер свистел у него в ушах, все забивал. Не доехав двадцати метров до казаков, Чупров остановился. Тяжело, боком, сполз с коня. Отер рукою пот е лица и едва слышно шевельнул губами:
— Слава богу, выбрался...
— Ну, Чупров, если ты испохабил копыта моему коню — берегись! — Семенов не выдержал, сжал руку в кулак.
Коня в отсутствие сотника должен был подковать полковой коваль, но не подковал — что-то, видимо, помешало...
— Бездельники! — Остывал Семенов быстро — так же быстро, как и загорался. — Чего там случилось, Чупров?
А у Чупрова уже дрожал от обиды рот.
— Извиняйте насчет коня, ваше благородие, и вообще извиняйте, ежели что не так... Но другой возможности вырваться из Сахоцина не было.
— Извиняйте, извиняйте, — проворчал Семенов по-стариковски, — скакал бы по пахоте — тогда другое дело, а тебя понесло на трамбовку.
— Иначе бы не ушел, Григорий Михайлович.
— Докладывай, что произошло, — потребовал сотник, остывая окончательно. — Где полк? Что за стрельба?
Полк снялся еще вчера и ушел вышибать из-за реки «вильгельмов», а здесь... здесь остались только два обоза, — Чупров провел рукой по лицу, увидел на пальцах кровь — у него была разбита верхняя губа, — два обоза, значит, да штабные фуры... Воевать некому.
— Немцев много?
— Около полка примерно.
— Около полка или примерно?
— Примерно около полка, — тупо повторил Чупров. Он еще не отошел от скачки, от того, что пережил, — может быть, даже больше. Налетели внезапно, как вороны... Знаю еще, что два немецких эскадрона спешились.
— Где?
—Да у церкви ихней, у этой... как ее? Ну, на «цырлих-манирлих» слово похоже. С буквой «це».
— У кирхи, что ли?
— Во-во. С буквой «хэ». Заставу из «вильгельмов» выставили. — Чупров упорно называл немцев «внльгельмами». Все называли по-разному — «гансами», «фрицами», «адиками», выбирая слово поудобнее для языка, а Чупров называл «вильгельмами» — словно в недобрую память о ненавистном кайзере, не в честь, а в память. — И что еще плохо...
— А почему стрельба такая редкая? — перебил денщика Семенов.
— Это немцы по разбежавшимся обозникам пуляют, в каждого в отдельности. И что еще плохо, я говорю, ваше благородие, они знамя нашенское в плен захватили.
— Ма-ать честная! — Сотник невольно присвистнул, лицо его исказилось, и он привычно поднял коня на дыбки, выкрикнул резко, со слезой, будто сорока, в которую угодил заряд дроби: — Братцы, это что же такое делается? Немцы захватили наше знамя! — Лицо у сотника обузилось, сделалось хищным, незнакомым. Семенов вытянул из ножен шашку, с лязганьем загнал ее обратно. — За мной!