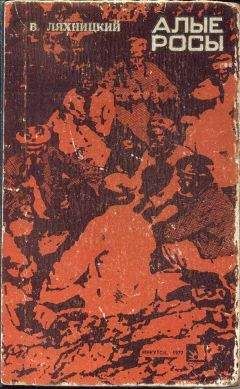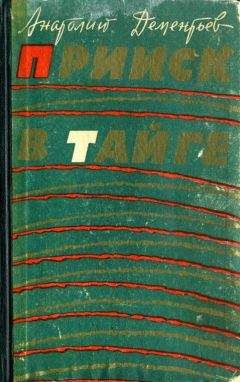— Цветочки… Солнышко… Ветер с гор дует… Кедры шумят, — словно во сне повторяет Ксюша.
Нет сил сидеть взаперти.
— Божусь, дедушка, не уйду я с крыльца. Как прикажешь вернуться обратно в чулан, так и вернусь.
— Давно бы так, по-хорошему, как все люди. — Савва обходит чулан. Вот он подходит к двери, гремит замком, цепью.
Скорей бы раскрылась дверь! Нечем стало дышать!
Так было на рогачевском пруду, когда, упав с мостков в воду, Ксюша запуталась в рыбацкой сети, рвалась к воздуху, к свету, а сеть не пускала. Так же вот разрывало грудь.
А Савва все громыхает цепью. Ксюша дергает в исступлении дверь, кажется ей, задохнется сейчас, упадет у двери и тут сознает, что выйдя на солнце, на волю, не сможет заставить себя вернуться обратно в чулан. Сбежит непременно. Обманет!
— Дедушка! — кричит что есть- мочи Ксюша. — Не открывай! Все одно убегу. — Боясь, что Саввушка не услышит ее и откроет, уперлась спиной в дверь.
— Эка, какая ты несуразная, — продолжает греметь засовом старик. Но теперь он уже запирает дверь. — Несуразная, говорю. Ты, как ягодка, соком полна. Руки, ноженьки по работе, поди, соскучились…
«Соскучились, еще как, — безотчетно соглашается Ксюша. — Мне бы сейчас литовку, от света до света косила б не разгибаясь. Или дрова бы пилить…»
Истосковалось по работе все тело. Каждая косточка ноет. Родное село Рогачево, тайга, услышался звон пилы, запах свежего снега почудился… Ваня на лыжах идет…
Руки плетями повисли. «Несчастная я, горемычная… — и сразу же с силой вскинула голову. — Отец говорил: человек не собака, его не жалеют, ему помогают, а жалеть самой себя — последнее дело. После этого остается лишь на коленях ползать». — Подбежала к перевернутой кадке, служившей вместо стола, схватила хлеб, мед, туес с квасом — все, что принес нынче дедушка Савва, и швырнула в оконце.
— Больше мне не носи. Ни кусочка вашего хлеба не съем, ни глоточка вашей воды не выпью.
Саввушка в щелку, как закряхтел, рассмеялся:
— Голод царей смирят. — Рассмеялся и приумолк. «Царей-то смирят, а эту девку может и не смирить. Вдруг и впрямь перестанет есть».
Торопливо, спотыкаясь на ровной тропе, обежал пятистенку и встал под оконцем.
— Ксюшенька, девонька, приедет вскоре Сысой, над ним и мудруй, а меня пожалей. Со света сживет он меня, ежели ты вдруг с тела спадешь, ядреность свою потеряешь, — и приумолк, зашептал про себя — Господи, да так она вовсе может жизни решиться. Кто же тогда перед богом ответчиком станет? — Бога побойся…
— А бог твой видит этот чулан? Видит замок на двери? Где же он, твой бог? Отпусти, говорю.
— Так хотел же тебя отпустить, сама дверь прихлопнула. Побожись…
— Оставлю тебя в живых.
— Свят, свят…
Ушел растревоженный Саввушка. Ксюша метнулась к двери: может, старик забыл ее запереть? Лязгнул закрытый затвор, цепь на двери ответила приглушенным звоном.
Тихо прошла к слуховому оконцу и прильнула к нему. Синее небо! Далекие горы! Могучие кедры! И все это залито солнцем! Нет больше сил сидеть в темном чулане. В груди что-то криком рвется наружу. Билась, как бьется попавший в плен зверь.
— Савва! Дедушка Савва! Выпусти, говорю. Креста на вас нет, проклятущих. Господи, разрази ты громом эту заимку. Дедушка Савва! Дедушка! Слышь, открой! А-а-а-а…
Ухватилась за край бревна, пыталась его раскачать, отломить у оконца хотя бы кусочек. Крепки стены кондового леса, но расщеляло их время, а отчаяние прибавило сил, и под рукой Ксюши чуть шевельнулась отставшая дрань. Еще покачала — шевелится! «Нет никого!» Рванула и оторвала дранину. Оконце стало пошире. Привстав на топчан, сунула в него голову. Оцарапала уши, но голова, пожалуй, пролезет. А стоит просунуть голову, так можно протиснуться и самой, — это знает каждый.
Ксюша зажала рот, чтоб радостный крик не выдал ее.
Время тянулось небывало медленно. Солнце, казалось, застыло на месте. Полосатый бурундук заскочил на оконце, встал столбиком и начал чистить усы.
6.
Арина проснулась среди ночи от смутного беспокойства. С чего-то пахло цветущей черемухой и запах ее пробуждал тревогу в душе. Вроде б надо идти куда-то. А куда? К кому?
Кто-то ходил у крыльца и щепа под ногой с натугой ломалась.
— Господи! Вроде, мужик?
Приподняв от подушки голову, приложила ладошку к уху.
— Неужто Семша скребется? Ни за што не открою, ни в жисть. Хватит мне грех-то на душу брать. Ишь, бесстыжий, никак подходит к крыльцу?
Откинув лоскутное одеяло, Арина встала. Темно в избе. Так же темно на душе. Было время, вот так, до полуночи, а то до утра поджидала она Симеона. В ликующем трепете замирала душа от звука шагов на крыльце.
— Заскребись, варнак, все одно не открою, — и заскулила тихо, самой еле слышно — Разнесчастная я сироти-нушка-а…
— Эй, — Арина, открой!
— Он! Закрючу покрепче. — Стучало в висках и, казалось, пол под ногами качается. Перебирая ладонями по печи, подошла к двери. Эх вы, руки-предатели, против воли Арины откинули крючок. Распахнулась дверь и закричала Арина:
— Кто это? Господи!
Кто-то тяжело шагнул через порог и прикрыл за собой дверь. Арина отступила к кровати. Надо бы к печке, там рогачи, кочерга, там горшки, чугунки — есть чем отбиться.
— Я это… Ваньша… — голос хриплый, но все же признала его. Лютая злость сменила недавний страх.
— Ты пошто, окаянный, шаришься по ночам? Пропадал целый месяц. По тебе тут без мала панихиду служили. Кого тебе надо?
— Тебя.
— Вот я тебя кочергой, — торопливо накинув сарафан, ступила вперед, прямая, ядреная. — Вон из избы, штоб и духом твоим тут не пахло, а не то всю рожу твою окаянную растворожу, зенки твои распутные выскребу. Проворонил невесту и к бабам шастаешь, — а сама, потихоньку, в обход нежданого гостя, к печи. Но тут Ванюшка схватил Арину за руку.
— Посчитаться нам надо. А ну сказывай, подзаборная сводня, как Ксюхе бежать помогла? У-у-у, — тряхнул. У Арины аж ворот на рубахе треснул.
— Легче ты, леший. Гулял-то где? Сколь денег у отца промотал?
— Ты Ксюху с Сысоем свела?
— Не я, вот те свят, — закрестилась Арина, предчувствуя беду.
Послышалось, вроде нож лязгнул о ножны.
— Што ты, Ванюша, загрезил? — ноги обмякли, разъехались, как у телушки на льду. — Миленький, родненький, да я и тебя любила, и Ксюшеньку… Как приданое собирала… наглядеться на вас не могла. Птенчики вы мои ясноглазые.
Озноб сотрясал Ванюшку. Все невезение последних недель, все отчаяние долгих ночей — все вспомнилось. Сысоя не сумел отыскать ни в городе, ни по селам. Ксюша как в воду канула, но Арина-то тут. «Она виновата в убеге! Она должна знать, где сейчас Ксюха», — много раз повторял Ванюшка себе, возвращаясь из города в Рогачево.
— Заговоришь у меня, — перехватил в руке черен ножа. Нож острющий. Чуть не каждую ночь по пути из города правил его Ванюшка. — Визжи, пришел твой черед. Молись, если хочешь. Молись.
— Ва… Ва… Ва…
— Сказывай, как с Сысоем стакнулась?
— Ва… Ва… вот те крест.
— Крестом не машись, мой тятька как врать зачнет, так непременно крестится. Сказывай правду, — и упер острие ножа Арине в ключицу.
— Мамоньки… Режут! В глаза его не видала, Сысоя, почитай с Рождества. Больно… Кровь, кажись, побежала…
Арина боялась пошевелиться. Только думы метались.
— Сколь тебе Сысой заплатил?
— Господи, — голос Арины окреп неожиданно для нее самой. — Заплатил?! Шаль-то, шаль мою увезли. Позор-то какой.
— Каку шаль?
— Бордову. С кистями. Што ты подарил.
Ванюшка опешил. Пчелиная семья трудится и живет, пока в семье матка. Погибнет матка и погибла семья, разлетелась. В кержацкой семье матки нет, но есть литые медные складни с ликами Христа, богородицы, угодников божьих. Есть крест. Громовая свеча. Моленные книги. Свадебные сапоги. Перина в углу на кровати. Пока они целы — цела семья. Но все это мужнино. У женщины только и есть, что лестовки да шаль. В шали она идет под венец. Ее приданое вносят в дом жениха непременно покрытое шалью. Мужик молится с непокрытой головой, а женщина в шали. Бог и святые угодники по шали ее узнают, непокрытую не узнают.
Сорвать с женщины шаль — все одно, что вымазать дегтем ворота. Случалось, женщина душу свою отдавала, себя без остатка, а шаль до последнего берегла.
Ванюшка даже не стал допытываться, как Аринина шаль попала на Ксюшину голову, понял по голосу: Арина сама негодует. Выходит, не виновата?
Нож звякнул об пол. Арина схватила его, одним прыжком на крыльцо выскочила и зашипела оттуда:
— Сатана… бес… убивец… Пошел прочь, не то… — Страха не было, только злость колотила. Послышалось, будто кутенок возле печи заскулил. Плакал Ванюшка.
— Аринушка, ничего-то в жизни моей не осталось. Некому жалиться мне на судьбу, окромя как тебе. Сирота я теперича.