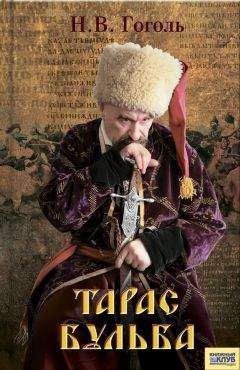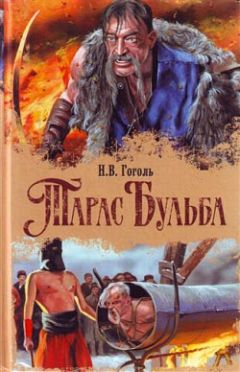— Снег за шиворот!
— И Карлсона в жопу с пропеллером! — отечески напутствует Седой.
А Молчун смотрит. Но лучше бы сказал, а не смотрел так. Слишком убедительный взгляд у Феди — Молчуна.
Когда посылают по–русски, трудно уйти по–английски. Ситянский в дверях оборачивается, словно тоже хочет что–то сказать — объяснить, но так и не рожает слов — только ломано отмахивает рукой и выходит.
— Налили — выпили! — командует Извилина. — За то, чтобы у каждого оставался выбор.
Молчун выходит, становится у стены — ждет, смотрит на Старшего Ситянского.
— А если я этим? — Ситянский достает из кармана гирьку на шнурке. — Что сам возьмешь?
— Обойдется, — отвечает за Молчуна Извилина.
— Ну, пусть обходится, — соглашается Ситянский, отворачиваясь, будто бы решая что–то положить на стол, и тут же мечет гирьку в голову Молчуна.
Гирька влипает в стенную панель, оставляя глубокую вмятину. Молчун скользит навстречу, под шнур. Разом бьет скрюченными пальцами под соски. Уходит за спину, ударяет в спину, кажется просто хлопает ладонью, но все так было быстро, что никто ничего не понимает. Берет за локоть разворачивает на себя — смотрит в глаза и говорит:
— Все. Иди!
У Ситянского такой вид, будто внезапно прихватило сердце, зажимает в грудине, словно уперлось в него несколько ножей. Бледностью наполняется лицо. В гробовом молчании выходит…
— Не убил? Отпустил? — недоуменно спрашивает кто–то.
— Убил, — говорит Молчун. — Он понял.
Остальное показывает на пальцах, чтобы и Извилина понял, в чем суть.
— Умрет, — объявляет Извилина во всеобщем молчании. — Он уже мертв, неделя или две оставлены на покаяние.
Зная, что действительно, теперь Старший Ситянский умрет именно через одну–две недели, но никакие покаяния ему не помогут. Раз Молчун определил, значит, так и будет. И смотрит в сторону дверей…
— Было у отца три сына, — задумчиво говорит Седой.
— И все три — идиоты!
Это Замполит.
— Хватит гулять — поехали, дел много.
— А обед?
Замполит с сожалением ведет носом.
— Не велено! Время.
— Подожди!
Извилина вежливо извиняется перед всеми — «дела–дела, вы не одни — районов много», назначает временного старшего над оставшимися — «до особого распоряжения», сразу же выбрав того, кто опрокидывая внутрь себя стопки, не частит, а делает это с чувством глубокого внутреннего достоинства. Повторяет, что пусть все идет своим чередом, но без наглости, а потом либо сам навестит, или человек от него, и будет всем денежная халтурка. Бросает пару «тысячных» — догулять сегодняшнее и забыться. В общем, подчищает за собой «гражданским образом», хотя уверен, не должно такого случиться, чтобы принялись стрелять в спины.
— Скажи тост, — просит Седой, зная, что Извилина обязательно завернет нечто подходящее случаю, «тост–многослойку», где каждый найдет свое.
Извилина не кокетничает, поднимает стопку.
— У каждого своя птица счастья, и ее надо выращивать самому с птенчика. Многие этого не понимают, торопятся, закармливают словно курицу для гриля — тем она и становится. Но бывают… повторяю — случаются такие моменты в жизни, когда нельзя поступить иначе, как ощипав собственную птицу счастья, выставить ее на общий стол… В общем, — подытоживает он, — за яйца и за птенцов!
Все понимают, что Извилина сказал хорошо, и выпивают с удовольствием.
В дверях останавливается.
— Чуть не забыл! И еще…
Все умолкают.
— Какие бы не сложились в дальнейшем отношения, пусть самые дружественные, но тот район, где Седой обитает, ваша зона бедствия. Бермудский Треугольник! — на всякий случай добавляет он для образованных…
На улице Извилина опять как–то разом скучнеет, сходит румянец с лица… Быстрым шагом проходят переулок, свернув раз, другой, выходят к машине — крытке. Задняя дверь — обе створки распахиваются. Говорит в полумрак:
— Могли бы и отобедать.
— Действительно, Командир — платим, а не кушаем! — жалуется Замполит. — Мишу обидели, теперь слюной все закапает.
— Платим исключительно за «трудовые резервы», а дальше они сами будут за себя платить.
— Мы же мат им поставили в три хода — даже в два, — не сдается Замполит. — Могли бы разыграть и пошире, и на нескольких досках разом.
— Этакие Большие Васюки? — интересуется Командир.
— Но не патовая же ситуация, когда всем логикам предпочтительнее женская. Сматываться зачем?
— Воевода прав, — говорит Извилина. — Лишнего засветились. Нельзя, чтобы привыкли, держать надо дистанцию. Пусть теперь свое пересказывают. В таких случаях издали страшнее. Недельки через две проведаю, когда старшего Ситянского похоронят. Слышал уже?
— Нет, но сообразил, что не удержитесь от какой–нибудь показухи. А, что в лесочек, который наметили, нельзя было свезти, и там кончить? Обязательно надо было на виду у всех? Разговоры теперь пойдут…
— Это — да! — восхищается Замполит. — Ну, Молчун, ну деятель! Первый раз такое вижу — «отсрочку». Аж, мороз по коже! Мокруха с пролонгацией.
— Вот, считай, и попугали, — говорит Извилина. — А мокрое? Какое мокрое, если человек сам по себе умер? От вполне естественных причин. В общем, вскрытие покажет. А если, после такого наглядного урока, остальным еще нужны объяснения, значит, они безнадежны и все равно ничего не поймут.
Подрагивают, поигрывают пальцы Замполита.
— Как в целом прошло? — спрашивает Георгий.
— Никто за стволы не хватался, не думаю, что и были, — отчитывается Замполит. — Скучно!
— Их берут, когда из города выезжают — покуражится, — замечает Седой. — А в городе стараются не шалить — слишком много глаз. Да и уже и не по времени, лет с десяток назад, тогда другое дело…
— И еще! — опять жалуется Замполит. — Сергеич! Почему, как Миша — так «Медвежонок», а как Леха — так «Суслик»?
— Подсознание сработало! — вроде бы извиняется Сергей — Извилина.
Леха крякает, но расспрашивать — что за «подсознание», в чем оно заключается, не спешит.
Проезжают круг, останавливаются — подсаживаются Молчун — что ушел через кухню и двигался дворами–переулками высматривая надо ли отсекать хвост. Казак, что страховал Молчуна, влетает в кабину, смотрит в заднее окошко — все ли? Лихо командует:
— Ханди — летсгоу базар!
— А жалости у меня к нему нет совершенно, — продолжает Извилина, но теперь больше для Феди — Молчуна. — Он работягу убил, транзитника убил, ради того, чтобы деньги его трудовые взять. Считай, что я в этом деле прокурор. Все! Точка!
Извилина знает, что Федя — Молчун способен на многое, но такой фокус видел впервые.
— Вскрытие покажет, — повторяет он, про себя думая: — «А что оно собственно покажет? Оторвался тромб, прогулялся по венам и создал закупорку в сердечном клапане? Гипертонический удар? Что в общем не удивительно, зная беспорядочный образ жизни «покойного»… А учитывая то, что предстоят две недели беспробудного пьянства. Так сказать — отвальная–отходная… Порода такая — не умеют по иному дверьми за собой хлопать…» Еще думает, а не рассчитал ли Молчун наперед, что будет пить? Пробил же точки под «сердечную недостаточность» — чтобы случилось ближе к историческому факту–эпитафии: «покойный сердце имел черствое, скорее вовсе не имел…» Действительно, раз уж человека убил из личной жадности — ради денег, бумаги разрисованной — тут ни в какие ворота, даже не стой там Петр с ключами…
…Характер рождается под небом. Под общей крышей характера не совьешь. Под небом — один, под крышей тебя, зажав стенами и коридорами, гонят с такими же в определенное стойло, где внушают наперед определенные истины, словно отлитые с одного лекала. И каждый человек — учитель. Один научит выбивать зубы, другой их заговаривать, третий — растить зубы по всему телу…
Странности Федора гораздо более бы бросались в глаза, если бы он с самого детства не был молчун. Странности распознали бы позднее, обеспокоились и весьма возможно заперли бы Федю в учреждении с решетками и тюремщиками в белых халатах, но только не в группе, чьи задачи не менее странны, а собственные неповторяющиеся странности заставляют решать их более качественно. А так… Мало ли кто на чем контуженный? Федор боготворит Устав, и заставляет себя жить по наиболее жесткому — собственному. Должно быть, из таких и получались лучшие монахи–схимики, которые, выковав себе некую идею, ограничивали себя во всем, что находилось вне этой идеи, что не служило ей. Любому делу нужны препятствия, иначе оно так и не наберет массы, чтобы их ломать…
Напугай камень, и он сам даст трещину. Федя помнит то время, когда ходил в лес пугать камни. Вросшие, мшистые, вековые, они, казалось, смеялись над ним. Пинать их ногами было больно и глупо. Понял, что пугать надо страх в самом себе. В человеке сорок видов безумия, Федор нашел сорок первое. Если человек находит поприще по собственному безумию, оно сразу же начинает походить на здравый смысл…