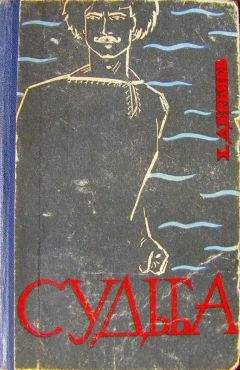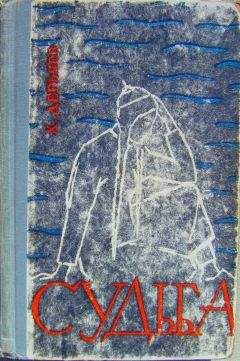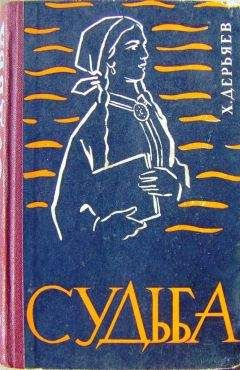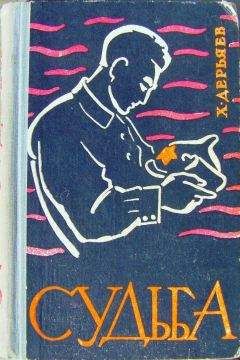Иногда, сидя в одиночестве, держась за ворот платья, молодая женщина шептала: «Боже, пронеси беду мимо нашей головы! Уйди, беда, исчезни, провались в ад!» Но беда провалиться не желала и снова, и снова шаркала около порога стоптанными калошами, харкала и отплёвывалась перед тем, как вкатиться в кибитку.
Подлость других иногда наталкивает человека на нехорошие мысли. Как-то Огульнязик подумала дать Энекути какую-то очень ценную вещь, а потом закричать, позвать людей, обвинить вымогательницу в воровстве, опозорить её. Тогда пусть говорит, что угодно: опозоренному не поверят, скажут, что она со зла наговаривает.
Однако, поразмыслив, молодая женщина отказалась от такой затеи. Она очень ясно представила себе, как Эиекути стоит перед людьми с елейной рожей и удивляется: «Украла? Она мне сама на время дала эту вещь! За что же ты позоришь меня, девушка? Или ты боишься, что я расскажу людям, как ты переодевала в мужскую одежду Узук?» Конечно, так и будет, толстуха сумеет выкрутиться, недаром столько времени трётся около ишана, хотя последние дни ишан что-то не очень к ней благоволит.
Впрочем, ишан не благоволил ни к кому. Раздражение, нервное напряжение Огульнязик искало выхода и находило его в насмешках над ишаном. Молодая женщина язвила над старческой немощью своего мужа, говорила, что он всю свою мужскую силу вкладывает в молитвы, ничего себе не оставляя. А может быть, он потихоньку забавляется с какой-нибудь потаскушкой? Ему это не в новость, хотел же он свою гостью изнасиловать? Ему Узук под охрану дали, как святому человеку, а он сам задумал напиться из чужого кувшина. Может, он и сейчас в чужом хаузе бороду мочит? В его возрасте мужчины ещё на скакунах гарцуют, а он на осле усидеть не может, на бок валится.
Такие и подобные им разговоры повторялись чуть ли не ежедневно, лишая ишана Сеидахмеда покоя и радостей жизни. Ишан плевался, шипел, как рассерженный кот, на всех и вся, грозил Огульнязик: «В сумасшедший дом, подлая, упрячу! Свяжу и отвезу сам. Не выйдешь оттуда, пока твои глаза не закроются!» Огульнязик понимала, что это — не простая угроза, что ишан очень просто может посадить её в сумасшедший дом, но всё равно не успокаивалась и донимала «святого старца» все злее.
Душевную сумятицу ишана усугубляли ещё и доходящие до него слухи о неблаговидном поведении сына. Их усиленно распространяла Энекути. Она говорила о том, что молодой ишан Черкез с тех пор, как сбрил бороду и уехал в город, стал совсем безобразным человеком: курит табак, пьёт водку, каждый день приводит к себе домой продажных женщин, говорит крамольные слова. Разрыв с сыном и без того тяжело лёг на старые плечи ишана, видевшего в Черкезе свою опору, своего единственного преемника, а сплетни, распространяемые Энекути, ещё больше бередили его душевную рану. Не один раз он думал, что следует одёрнуть неблагодарную бабу, может быть, даже выгнать её с подворья прочь. Но вспоминал о грешках больших и малых, которые знала, а иногда и сама устраивала Энекути, вспоминал и только вздыхал, почёсываясь: выгнать нельзя, ославит. Да и неудобно: ещё года не прошло, как умер её муж, нельзя обижать человека в таком большом горе. Нечестивый был человек, насмешником был покойный, а всё одно — правоверный мусульманин и муж сопи Энекути…
Однажды Огульнязик, сама не зная зачем, забрела в отдельную келью. Это была та самая келья, куда Энекути заманила Узук на свидание с Черкезом, и где потом несчастная пленница встретилась со своим возлюбленным. Когда-то ходили слухи, что эта келья — с домовым. Никакого домового здесь не было, просто Энекути устраивала здесь любовные делишки ишана Черкеза.
Присев у холодного оджака, Огульнязик задумалась. Перед её глазами встал стройный, гибкий красавец-джигит, в которого превратилась Узук, переодетая в мужскую одежду. Где она сейчас? Говорят, снова отняли её у любимого, снова отдали в семью Бекмурад-бая, а её Берды отвезли в ашхабадский зиндан. Трудно жить на свете, ох как трудно жить, когда нет у тебя защиты! И женщине трудно и мужчине. Но мужчина может хоть взяться за оружие, как сделал тот мальчик, брат Узук, может силе противопоставить силу. А что может женщина?
Огульнязик прикрыла глаза и снова увидела лицо.
На этот раз не Узук, не Берды. Это было очень знакомое и в то же время совершенно незнакомое лицо. Кто это?
Она напрягла память, и память брызнула золотой россыпью солнца, заливавшего широкий чистый двор, память пролетела лёгким вечерним ветерком, наполненным запахом цветущего лоха, память забелела листком бумаги, на котором написаны прекрасные слова любви. Вот оно чьё лицо! Это лицо Клычли, того самого Клычли, который когда-то любил её и собирался увезти тайком в пустыню. Помешала Энекути, помешал ишан Сеидахмед, Где теперь Клычли? Поди, давно женился, детишек полон дом, жена красавица… Наверно, ни разу не вспомнил о ней. А впрочем, что стоят воспоминания? От них только щиплет глаза да першит в горле, Как от золы, которая попадает в лицо, когда раздуваешь оджак.
Огульнязик потрогала рукой холодные камни печурки и подумала, что этот оджак — как символ её жизни, которая так же пуста, и нет в ней огня, и нет хозяина, которого она могла бы согреть в холодные ночи, в пасмурные ненастные дни. Очень много таких пасмурных дней и ледяных ночей, но некому зажечь огонь в очаге. Огромный светлый мир темей и тесен, и порой кажется, что единственная дорога в нём — это шерстяная верёвка, свёрнутая петлёй и привязанная к верхушке терима…
Вздохнув, молодая женщина поднялась и направилась к выходу из кельи, когда послышались чьи-то голоса, негромкий смех. Огульнязик, замедлив шаги, осторожно выглянула наружу.
Неподалёку от кельи стоял казан. Когда она проходила мимо, казан был пуст. Сейчас под ним горел огонь из казана поднимался пар. Около него на корточках сидела проклятая Энекути, — провалиться бы ей в преисподнюю! — и, игриво хихикая, подбрасывала в огонь дрова. А сбоку, вплотную привалившись к толстухе, сидел…
Огульнязик поспешно отступила в темноту мазанки. Кажется, судьба, смилостившись, давала ей в руки оружие против Энекути. Только бы не спугнуть их, только бы не догадались, что за ними следят! Если об этом узнает ишан, черномазой вымогательнице не сдобровать. Чем бы он ни был ей обязан, он всё равно не потерпит надругательства над законом, не потерпит поношения «святого места». Надо только всё умненько сделать.
Сдерживая дыхание, Огульнязик осторожно выглянула скова. Так и есть, с Энекути сидит Габак-ходжам[5], тот самый красношеий Габак-ходжам, который только и умеет, что жрать даровой хлеб да курдючное сало в доме ишана. Вряд ли за свои тридцать с лишним лет он сделал что-нибудь полезное. Он вообще ничего не умеет, даже с женщиной как следует обходиться не научился: вон засунул руку под подол толстухе и шарит там, а сам покраснел весь и рот разинул, как богом тронутый! Ишак слюнявый! Ещё к ней подкатывался со своими любезностями! Это, кажется, он выталкивал из кельи ишана мать Узук, когда та пришла повидаться с дочерью? Ну конечно, он самый! Вон и шрам на лбу от кирпича, которым его тогда угостила вторая старуха, пришедшая с матерью девушки. Так тебе и надо, дурак вислоухий! А эта святоша, эта жирная жаба! Ишь хихикает и ёрзает, словно на колючке сидит! Погоди, ты у меня в самом деле на колючку сядешь!..
С этого дня Огульнязик стала внимательно следить за Энекути и Габак-ходжамом. Первое время она никак не могла догадаться, где они встречаются, а в том, что встречаются, сомнений не было. Потом выяснилось: что местом своих свиданий они облюбовали именно ту «келью с домовым», из которой она их увидела первый раз. Ей тогда просто повезло, что они не зашли.
Следить было нелегко, так как дверь кельи открывалась в сторону поля. Однако Огульнязик нашла выход: ска чуть раздвинула боковые кошмы в кибитке старшей жены Черкеза, той самой, которую в восемнадцать лет выдали замуж за двенадцатилетнего мальчика и которая теперь увядала, не сумев расцвести. Отсюда, в эту щёлочку была видна дверь кельи, где встречались Энекути и ходжам. Когда хозяйка кибитки полюбопытствовала, зачем уважаемая гелнедже проделала дыру в стене, Огульнязик велела ей молчать, сказав, что через день-два покажет интересную вещь.
Ждать пришлось недолго. В тот же день, едва стемнело, появился Габак-ходжам и, оглядываясь по сторонам, словно петух, направился к келье. Огульнязик подозвала жену Черкеза:
— Смотри!
Габак-ходжам ещё раз оглянулся и скрылся в келье.
— Что он там делает?
— Сейчас увидишь, — сказала Огульнязик. — Смотри внимательно, а то прозевать можешь.
Уже опустело подворье шпана Сендахмеда, взошла луна, когда появилась Энекути. Чёрным жуком-скарабеем прокатилась она по освещённому пространству и исчезла возле кельи, в которую вошёл Габак-ходжам.
— Всё! — сказала Огульнязик.