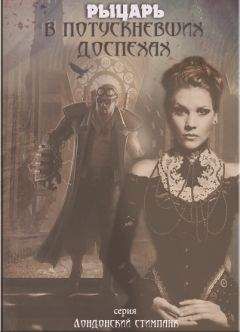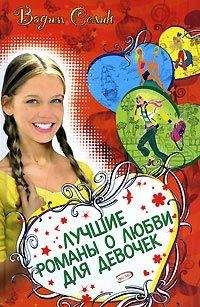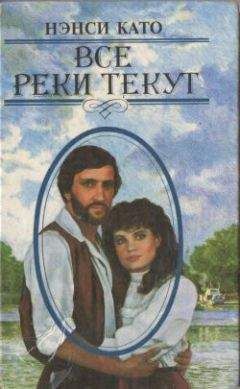На похоронах мама и дочка цеплялись друг за друга. Марину била дрожь, ей никак не удавалось согреться, мама Оля прижимала ее к себе и постоянно целовала, то в висок, то в щеку, то в макушку. Во всем ее гардеробе не нашлось черной вещи, и одета она была в синюю юбку и синюю же блузку.
Спустя четыре недели тишины, поселившейся в доме, пришедшая из школы Марина почуяла носом запах цыпленка табака и салата с редиской и свежим укропом. По квартире витало ощущение чистоты, которое появляется после уборки, даже если не ходить босиком по свежевымытому полу и не проводить пальцем по полке, чтобы удостовериться в отсутствии пыли.
Марина, не переодеваясь, настороженно зашла на кухню, поцеловала маму в щеку и примостилась на краешке стула. Мама Оля выставляла на обеденный стол два прибора, миску салата и блюдо с золотистым, еще шкворчащим расплющенным цыпленком.
– Как в школе?
– Хорошо…
Мама Оля кивнула. Какое-то время они ели молча, но Марина чувствовала, что слова уже виснут в воздухе, сейчас их озвучат.
– Мариш… Я много думала… Сейчас у нас очень трудное время. Очень. Но потом станет полегче. Ты понимаешь это?
Марина стиснула зубы. Все, что она понимала, это лишь что она страшно скучает по папе и еще по родительскому хохоту, к которому прежде так часто прислушивалась из другой комнаты.
– Сейчас надо только собраться, вот просто все силы, которые есть, собрать. И не сдаваться. Поняла меня? Наш папуля мне не простит, если я тут разведу сопли. Предъявит мне потом: «Что, Рыжик, скисла, хоть сметану делай!»
Да, папа всегда так говорил. Когда у дочки было плохое настроение, он подкрадывался к ней, щекотал под мышками, чего Марина страшно не любила, и велел не киснуть. Сейчас, когда мама произнесла его коронную фразочку, Марина замерла от боли. И вдруг хрюкнула, не сдержавшись. Уже смеясь, она поняла, что и плачет тоже.
Мама Оля обняла ее за плечи.
Наревевшись вдоволь, они все-таки поужинали. И стало чуточку полегче. Как будто потолок, до этого давивший на темечко, теперь приподнялся и в комнате появилось чем дышать. Марина поняла, что они справятся. Хотя у мамы и дрожат руки.
Следующие несколько месяцев они честно старались жить. Ходили вдвоем гулять, фотографировали, кормили уток, коллекционировали подслушанные у прохожих фразы и даже завели крохотную терьерочку Мусю, которая оглушительно облаивала любого прохожего или гостя, рычала, если ее пытались согнать с кровати, и была не прочь напрудить лужу на линолеуме посреди коридора. Зато мама не так сильно грустила по вечерам, когда Мариша впервые влюбилась.
Васька был, конечно, неотразим. Хулиган и шалопай, да еще и брюнет, с дерзким прямым взглядом и вечно с такими красными губами, словно только что в подворотне пил невинную девичью кровь. Он жил так, будто не ему вскоре сдавать выпускные экзамены. Старшеклассницы не давали ему прохода, атакуя и на переменах, и после занятий, а в особенности на дискотеках, куда парень заглядывал исключительно чтобы поиздеваться над противоположным полом, потому что не танцевал – принципиально. Не мужское, дескать, дело, не по-пацански. Что не мешало ему подпирать стену и хитро рыскать глазами по стайкам девиц. И в такие минуты он, с романтическими смоляными кудрями и лепным профилем, был точь-в-точь негатив Аполлона.
Впервые Васька обратил внимание на Марину, когда та вылила ему на голову стакан компота в школьной столовой за то, что он хамил учительнице химии, пока толкался в очереди за пирожками. Через неделю они уже не могли оторваться друг от друга. Эта парочка взламывала запертые жильцами чердаки и до помутнения в голове целовалась на крышах, уезжала «зайцами» на электричках к черту на кулички и возвращалась обратно автостопом, моталась на рок-концерты в соседние города. Васька набил на предплечье татуировку с буквой М, и Марина тут же пожелала в ответ заиметь тату с английской V. Хитро сощурившись, Васька отвел ее к знакомому мастеру, неулыбчивой даме с черной помадой. Боль Марина выдержала стойко.
С тайным предвкушением Васька вкрадчиво осведомился:
– Маман небось заругает?
Марина в ответ хохотнула. С мамой Олей он был пока не знаком.
Увидев татуировку дочери, мама хмыкнула:
– Стильно. А в случае чего можно говорить, что V означает «победа».
Любовь с Васькой напоминала вулкан, а еще вернее кастрюлю, кипящую на максимальном огне, отчего периодически у нее срывало крышку. Ссорились и мирились они так, что знал весь район. В один из таких дней Марина психанула, примчалась домой и, раскалив на газу нож, приложила его к готической литере на коже. С тех пор на предплечье на месте татуировки остался лишь побледневший со временем шрам с чернильными разводами. А с Васькой они наутро помирились.
В дурмане любовных переживаний Марина многое упустила из виду. Например, что у мамы Оли так и не перестали дрожать руки, хотя папу похоронили уже восемь месяцев назад. Что она частенько сидит в комнате одна, не зажигая света, и так тянутся долгие бесчувственные часы. Что при дочери на нее вдруг нападает веселость, больше похожая на суетливость, бестолковую и неловкую, когда постоянно что-то роняется, задевается, разбивается и выплескивается. Что под утро, едва светлеет небо, часто просыпается, как от щелчка плетью, когда сердце норовит выскочить из груди, и потом долго, тихо и горько плачет в подушку. Она даже не заметила, что мама Оля рассорилась с обеими своими близкими подругами, что было на нее совершенно не похоже, и растеряла большую часть клиентуры. После похорон она почти перестала вязать крючком, и недовязанные вещицы валялись по квартире, как невыделанные шкурки мелкого зверья в хижине скорняка.
Марине было не до того. Ее занимала только любовь. Она была больна любовью. В ту весну у нее в голове сквозил ветерок, журчали ручьи и тренькала капель. Она не могла думать ни о чем больше. Марина шла умываться с мыслями о Ваське, сидела на уроках, мечтая, как зальется звонок и он будет торчать в рекреации на втором этаже, поджидая ее. Засыпала она не раньше, чем созвонится с ним по телефону (шнура едва хватило, чтобы утащить аппарат к себе в комнату), и в душной темноте под одеялом промурлыкает ему пару фраз, за которые при свете стало бы стыдно. Она так была поглощена своими переживаниями, что не сразу заметила перемену в школьной атмосфере: с наступлением апреля коридоры вдруг наполнились слухами и перешептываниями, которые замирали на полуслове, стоило только Марине появиться в зоне слышимости.
А вот маму Олю они стороной не обошли, и одним из вечеров мама преградила Марине путь, когда та уже зашнуровала кроссовки:
– Ты никуда не пойдешь.