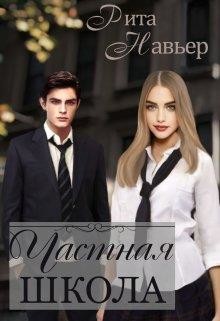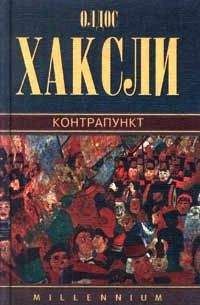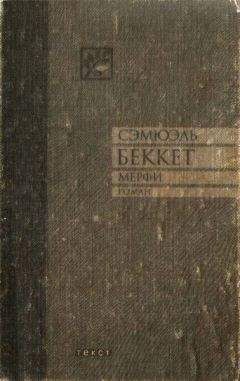В конце концов, и до Ромкиной матери доползли слухи. Народ их чуть ли не женил уже.
Как-то вечером за ужином она учинила Ромке целый допрос: что за девочка, откуда, из какой семьи, чем еще примечательна, кроме как своим утоплением и тем, что из-за нее Ромка подрался с Чепрыгиным.
Зарубин не работал у матери, поэтому она его и не знала. А Олину мать она едва запомнила.
— Отец у нее работает на водоканале слесарем, а Олина мама… кажется, нигде не работает.
— Завидное семейство, — хмыкнула мать.
Ромка бросил на нее осуждающий взгляд. Сложил приборы и откинулся на спинку стула. Хотел вообще встать из-за стола и уйти к себе, не доев ужин, но сдержался.
— Пригласи ее как-нибудь к нам, — вдруг выдала мать.
— Зачем? — удивился Ромка.
— Как зачем? Познакомиться. Очень хочется посмотреть, из-за кого мой сын сам на себя теперь не похож, — она говорила насмешливо, но беззлобно. И Ромка обещал, что как-нибудь приведет Олю в гости.
***
Идея со знакомством была дурацкая, он это сразу понял. Но рассудил: ведь все равно придется их знакомить. Так что почему бы и не сейчас?
Оля, конечно, перенервничала. Да она ему прямым текстом так и сказала: «Очень боюсь твою маму. Прямо умираю от страха».
Ромка тоже боялся — не маму, конечно, а того, что она ляпнет что-нибудь бесцеремонное или съязвит, и это обидит Олю. А ему очень хотелось, чтобы они подружились.
Решили устроить «знакомство» в ближайшее воскресенье. Ромка взвалил на себя львиную долю работы — чтобы мать не сильно устала и не была потом за обедом раздражена. Сбегал с утра по магазинам, накупил продуктов, почистил картошку, вымыл во всей их огромной квартире полы. Да и позже крутился рядом на подхвате, пока мать резала овощи и маслины для греческого салата, выкладывала в форму розовые ломтики лосося, взбивала сливки и тертый сыр.
В общем-то, первая половина дня прошла прекрасно — они с матерью, пока готовили обед, спорили о новом романе Паланика, который ей показался чудовищным, но странно притягательным, а Ромке — слишком циничным, провокационным и малость бредовым. Между ними нередко вспыхивали вот такие жаркие споры, и обоим это было интересно. И сейчас они настолько увлеклись, что прокараулили время.
В два часа позвонили в дверь, и они резко прервались на пике своей дискуссии, не сразу понимая, кто пришел. Потом Ромка спохватился, бросился открывать, по пути сдергивая с себя фартук.
Оля зашла в гостиную едва ли не на цыпочках. Она так боялась и нервничала, что, казалось, сейчас в обморок упадет. Это было заметно невооруженным глазом, что почему-то забавляло мать. Она пока ничего такого не говорила, но Ромка знал это выражение лица, эту саркастичную полуулыбку.
Оля села на краешек кожаного дивана, натянутая как струна, и не двигалась, казалось, даже не дышала, пока Ромка расставлял приборы и фарфор, раскладывал салфетки, наливал в хрустальные бокалы морс. Ничего, думал он, сейчас они сядут за столом, будут обедать, разговаривать, и напряжение спадет.
Но вышло только хуже. Ее неловкость и зажатость за столом еще больше бросались в глаза. Она кое-как орудовала вилкой, тяжелой, серебряной, неуклюже держа ее левой рукой, а ножом и вовсе не пользовалась. Просто зажала его в руке, видимо, повторив за Ромкой и его матерью.
— Оля, — иронично произнесла мать, — если не умеете, ешьте как привыкли.
Ромка бросил в мать короткий, но выразительный взгляд.
— Да, конечно, Оль, ты ешь как удобнее, — как можно дружелюбнее улыбнулся он. И тут же сам убрал нож, а вилку переложил в правую.
Мать на этот его маленький протест только хмыкнула. Оля же больше не притронулась к еде.
После того, как мать подала горячее, от наблюдений перешла к открытому наступлению. Нет, со стороны это выглядело как обычная светская беседа, но Ромка знал: мать не просто расспрашивает Олю о ее взглядах, интересах, семье — она показывает ему, как сильно его девочка до него «не дотягивает». Даже это ее нарочитое «вы» лишь подчеркивало пренебрежение и сарказм.
Ромка даже не утерпел.
— Называй Олю на «ты».
Мать повела плечом, мол, да пожалуйста, и продолжила «знакомиться». Каждый ее вопрос был как скрытый капкан, и вряд ли Оля это понимала, отвечая правдиво и бесхитростно.
— Значит, ты любишь шить и вязать? Ну, молодец. Мастерица. Ну а что-то еще тебя увлекает? Книги, искусство, коллекционирование… политика, — мать издала смешок. — Или ты готова о вязанье рассуждать часами?
Оля покраснела и замолкла. Потом промолвила, глядя в тарелку.
— Я люблю читать.
— О, это обнадеживает. Проза? Поэзия?
— Мама, — обратился к ней Ромка, хмурясь.
— Мне действительно интересны литературные вкусы нашей гостьи. Оля, а какие книги вам нравятся? Прошу прощения, тебе.
Она долго молчала, стеснялась говорить, но мать смотрела на нее выжидательно.
— Анжелика, — наконец промолвила Оля.
— О, я тоже читал, — подхватил Ромка, не зная уже, как сгладить обстановку.
— В десять лет, — добавила мать. — Или в девять? Анекдот вдруг вспомнился. Парень собирается на день рождения к девушке и советуется с ее подругой, что подарить. Спрашивает: «Может, книгу?». А подруга отговаривает: «Нет, ты что! Книга у нее уже есть».
Ромка красноречиво посмотрел на нее, но она была неумолима:
— Оля, а ты решила, что будешь делать после школы?
— Поступать буду. В пединститут.
— В наш?
Оля кивнула.
— Ты именно хочешь стать учителем или собираешься в пед, потому что здесь нет других институтов?
Оля пожала плечами.
— Мам, — пресек очередной вопрос Ромка, — ты Олю уже совершенно затерроризировала. Дай человеку поесть спокойно.
— Прошу прощения, — насмешливо улыбнулась мать.
Не обед получился, а пытка какая-то. Ромке и жалко было Олю, и стыдно перед ней. Он вообще ненавидел, когда мать вот так завуалированно кого-то принижала и высмеивала. Даже когда этот «кто-то» был какой-нибудь ее проштрафившийся подчиненный. А уж из-за Оли он буквально кипел внутри, негодуя.
Только вдвоем им было хорошо. После этого ужасного обеда Ромка пошел провожать Олю, но, как-то не сговариваясь, оба свернули в парк.
Сейчас, в октябре, там было чрезвычайно красиво. По обеим сторонам дорожки стеной тянулись деревья и кустарники, окрашенные позолотой и багрянцем. А саму дорожку устилали густым ковром опавшие листья. И пахло здесь пряной свежестью, от которой слегка кружилась голова.
Ромка с Олей брели, держась за руки. И представление, устроенное его матерью, стало вдруг казаться далеким и совершенно не значимым. Ерундой и мелочью. А вот то, что есть у них двоих — это действительно важное и нерушимое.
Ромка шел и думал: вот оно, настоящее счастье. Просто быть рядом, ощущать узкую прохладную ладонь в своей руке, слышать шорох ее шагов, видеть взгляд, улыбку… И даже говорить ничего не надо.
После этого ему совсем не хотелось возвращаться домой. Тем более он догадывался, что мать от души выскажется по поводу Оли, не пощадит.
Так оно и случилось. Едва он зашел в квартиру, даже разуться не успел, а мать уже встала в дверях гостиной, скрестив на груди руки. Пока еще молчала, глядя на него насмешливо, но ее молчание было напитано такой желчью, что Ромке хотелось развернуться и уйти.
— Ну, давай, — зло бросил он. — Начинай, высказывай, какая Оля… недостойная. Тебе же не терпится.
Мать иронично вздернула одну бровь.
— Недостойная? Ну вот видишь, ты и сам, оказывается, все понимаешь.
Ромка повернулся к матери, сверкнул гневным взором, затем отчеканил:
— Знаешь, что я понимаю? Что Оля — самая лучшая на свете. И даже не говори, что она мне не пара или еще что-то подобное. Нравится тебе или нет, мы все равно будем вместе.
— Боже, — хмыкнула мать. — Глупость и инфантилизм, видимо, заразны. Но успокойся, я и не собиралась убеждать тебя ее бросить. Даже вмешиваться не стану. Зачем? Тебе и самому вскоре с ней наскучит.