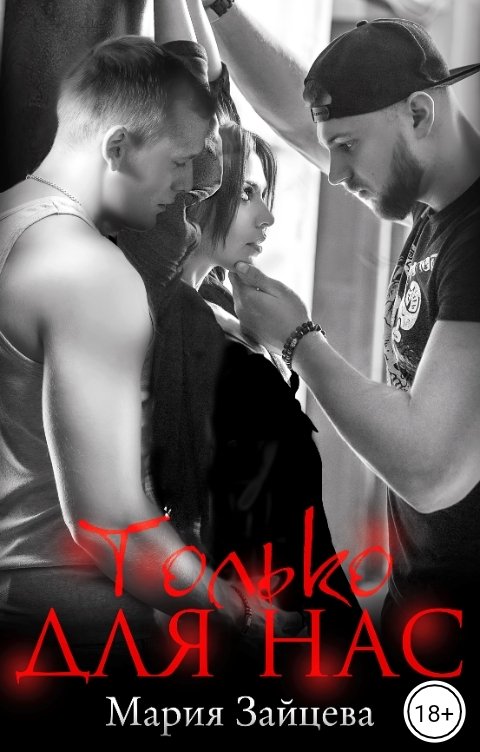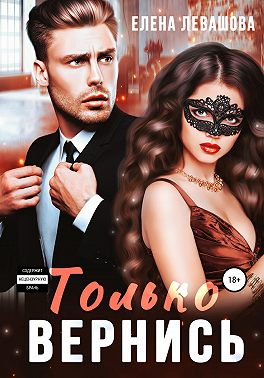язык. И он вовсю художественно рассказывал Ветке про часть, природу, выползающих на дорогу прямо ужей и жаб, которых в здешних лесах водилось дикое количество. Про сослуживца, не выдержавшего жесткого казарменного режима и однообразной пищи и принявшегося жрать объедки прямо из общего котла. Его комиссовали потом из-за желудка. Про то, что нас возили на стрельбище и там даже дали стрельнуть.
Я ему завидовал страшно, потому что ничего такого не мог написать, не мог придумать. А то, что хотелось написать… Не мог.
Потому мои письма отличались лаконичностью. Пара предложений, пара вопросов… И все на этом.
Мне все время казалось, что я что-то упускаю, не упускаю даже, тупо проебываю! Свой шанс на Ветку, свое будущее, свое счастье!
Конечно, Ванька красиво ей поет!
Вон, про лягушек, которых по всему дорожному покрытию гусеницами раскатывали, как художественно написал! И ржать хотелось и плакать! Писатель, прям! А я… Тупой какой-то… Ни слова нормально не могу ни написать, ни сказать…
От душевных страданий сильно отвлекала служба.
Сначала деды, решившие по старинному обычаю нагнуть салаг. Тут они просчитались, конечно. Мы с Ваньком, естественно, никакой революции не стали затевать, но и себя в обиду не дали. Дрались спина к спине, с кайфом и рычанием, отводя душу по полной программе. После первого же раза все поняли, что с нами лучше не связываться, потому что безбашенные полудурки. Лучше стороной обходить, тем более, что нашего призыва полно пришло, было на ком выместить обиду. Только предупредили, чтоб не лезли не в свое дело. Ну, мы с Ваньком на улице выросли, так что законы знали. Может, оно и неправильно, и надо было прямо бороться, но… Но против системы не попрешь. Мы и не пытались. Себя отбили, и это хорошо. Так что мы с Ваньком, да еще двое парней, прибившиеся к нам и не побоявшиеся встать рядом, когда на нас ночью толпа налетела, тяготы солдатской службы переносили стойко, но без лишнего напряга в виде смены воды в тазике для ног у дедушек или заправки их же постелей.
А к концу службы даже сержантами стали. Мы не просили, не выслуживались, но в армии нормальные адекватные парни — редкость страшная…
Мы отсылали Ветке наши фотки в форме и без формы, где мы лыбимся, лихо крутим солнышко на турнике и прочее. Она присылала нам фотки с выступлений… И просто с улицы. И мы с Ваньком опять дрались из-за них, страшно рыча и матерно отгавкиваясь от всех, кто пытался разнять и помешать делить наше одно на двоих сокровище. Неделимое сокровище.
Дембель пришел неожиданно.
Мы уехали домой, обменявшись контактами с двумя нашими сослуживцами, с которыми плотной четверкой пробегали весь срок службы. Один из них, москвич, имел подвязки в автобизнесе, верней, его отец имел, но он клятвенно обещал нас с Ваньком пристроить в выгодное дело.
Мы не то, чтоб сильно воодушевлялись, но все же это была возможность выбраться из той жопы, в которой сейчас жили. У нас не водилось иллюзий насчет перспектив в нашем городе. По крайней мере, с тем, что сейчас имели. А имели мы ровным счетом нихера.
И у Ванька, и у меня был полный ноль в кармане и незавидное будущее либо в такси, либо на химзаводе, где платили хорошо, но легкие выхаркивались уже на пятом году работы. Ни денег, ни связей, ни каких-либо умений ценных у нас не находилось…
А желание жить, и жить хорошо, было огромным.
К тому же нас ждала Ветка.
И это было главным двигателем.
Мы ехали в родной город, так ни о чем не договорившись, потому что смысла не было. Все зависело от нее.
Будущее зависло на тонкой нити ее решения. И было страшно даже предполагать, что она может захотеть Ваньку.
Я старательно не думал о такой возможности, подозреваю, Ванька тоже.
Мы с ним оба проявили себя в этой ситуации трусами, малодушно решив, что вот приедем и…
Приехали мы на похороны.
Бабка была плоха уже давно, еще до моего отъезда на службу, и, в принципе, этот финал ожидался, но…
Но она меня вырастила. И худо-бедно воспитывала, как умела. Сказки рассказывала на татарском про сильных батыров и нежных красавиц, злобных дэвов и волшебных коней…
И любила. Единственная на всем свете любила не потому что, а просто так…
Короче говоря, я держался, пока хоронили, пока поминали, а потом пришел в пустой дом, глянул на бабкину постель, накрытую пестрым покрывалом, которое она сама шила из лоскутков ткани…
И стало плохо. Я сразу и не понял, что такое, просто сердце начало болеть, да так сильно, что стоять тяжело было.
Прошел пару метров до стола, уселся за него, достал бутылку, скрутил с хрустом крышку и жадно присосался, жмурясь от льющихся из глаз слез.
Отставил бутылку, когда дыхание стало сбоить, еще раз оглянулся, смаргивая влагу, и подумал, уже пьянея, что хорошо, что никого сейчас нет рядом. Не хотел, чтоб меня таким видели…
На похоронах Ветка, на плечи которой легла львиная доля организации, держалась вроде рядом, но не совсем. И мне казалось, а особенно теперь, когда пьяный был, что она сделала свой выбор. И не в мою пользу.
И со мною не пошла в дом сейчас, с Ваньком в кафе осталась…
От этого понимания в голове еще хуже делалось, накатывала, кроме тоски внезапной из-за того, что один остался, теперь-то уж окончательно один, еще и злоба дикая.
Почему он?
Почему не я?
Ведь я же ее… С первого взгляда… Как дурак… А она…
Мне хотелось куда-то пойти, кому-то что-то доказать, сильно хотелось, и даже получилось подняться из-за стола… Но больше ничего не получилось.
Ноги подломились, бутылка упала на пол и покатилась, я с тупым удивлением смотрел за ее движением. Пустая, что ли? Всю выпил?
В голове помутилось, пол внезапно дал крен. И тут бы я и упал, прямо на темные доски грязной кухни, если б не крепкие руки, легко подхватившие под мышки.
— Ого, брат, да ты хорош… — знакомо забормотали над макушкой, а затем комната пошатнулась еще сильнее… И двинулась с места. Пока я удивлялся этому явлению, перед глазами возникло озабоченное