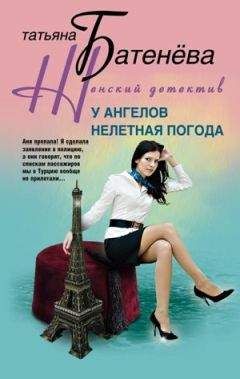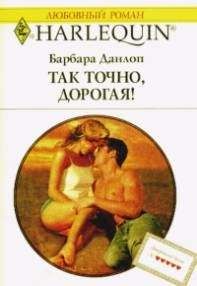тихонько сопела, лес стоял серый и молчаливый, только стряхивал воду с тёмной листвы. Солнце утонуло, так и не выйдя из-за тучи, и под стремительно темнеющим небом сгущался по-летнему свежий сумрак.
Там, среди мокрых деревьев, ходили призраки-тени. Невидимые и неслышимые, они тянули руки к живым, вглядывались в лица, искали то ли родных, то ли врагов. На мгновение Маргарете показалось, что и папа стоит где-то там, среди них: тёмный силуэт с взъерошенным кольцом волос вокруг блестящей лысины. Потом ветка качнулась, и он пропал.
Максимилиан тоже смотрел туда, в темноту, и ровными движениями растирал свой будущий суп, чтобы не было комочков. Наверное, и ему было, кого узнать в тенях.
— Я всегда была папина дочка. Не любила ни математику, ни его задачки, но папа, понимаешь… он очень нас всех любил. И любил говорить, что счастье важнее науки. Я никак не могла запомнить, как в шахматах ходят фигуры, и он играл со мной в то, что белая королева — прекрасная принцесса и едет со своей свитой к чёрному королю. Когда я болела и не хотела кашлять, хотя было надо, он кашлял вместе со мной. Мы притворялись, что мы с ним драконы. И…
Маргарета запнулась и замолчала. Всё это было очень глупо и не имело никакого отношения к делу, но весь этот долгий год слова копились внутри, закупоренные одиночеством и изоляцией, и теперь всё невысказанное пыталось вырваться наружу.
Хотя как это объяснить, какими словами? Где их взять? Папа был с чудинкой и слегка сумасшедший, как все математики, но он был папа. Маргарета провела с ним много-много часов, и это были хорошие часы. Как объяснить, что человек, проклятый самолично епископом, жарил по выходным идеальные пышные оладьи, и проклятие епископа — это где-то там, потом, далеко, а оладьи…
— Его призвали сразу, как началась война, — сухо сказала Маргарета, проглотив ещё ложку разводного супа и напомнив себе, что тот запах тающего в масле сахара ей только кажется.
Мама ужасно переживала: какой из него боец, из полненького рассеянного математика? Но папу призвали не в полк, а в штаб, и там он работал вместе с инженерами над чем-то настолько секретным, что даже в редкие увольнительные он не намекал на своё дело ни словом.
Потом оказалось, что это была цифровая машина, и что Батиста Бевилаква был взят в плен, где раскрыл чужакам тайны командования. Там же он был убит, когда наши сменили метод шифрования, и услуги предателя стали не нужны врагу.
О его смерти Маргарета узнала из газеты и хорошо запомнила чувство льющейся за шиворот ледяной воды. Ей казалось, что всё это какая-то ужасная ошибка.
Боргата-Тортора пала, залитая кровью. Командованию нужны были виноватые и подъём морали, а покойникам, как известно, всё равно, что о них говорят: Господ судит лишь по делам. А что звучную фамилию Бевилаква носил не один только предатель, никто не задумывался.
Это из-за неё — из-за фамилии — Маргарета осталась в Монта-Чентанни, когда всю их группу перебросили дальше на запад. И после нарушенного плохого приказа командир объяснил предельно ясно: за такое одно из двух — или обвешивают медалями, или расстреливают. И что никто и никогда не подпишет приказа о награждении Бевилаквы. Не теперь, когда та рана ещё совсем свежа.
Маргарета плохо запомнила, что именно он говорил. Она лежала в лазарете, оглушённая препаратами.
Зато она хорошо запомнила, с каким лицом он пожал ей руку. Это было лицо смертельно уставшего человека, который пришёл сообщить очень плохие новости.
— Он сделал документы, — вяло сказала девушка. — Меня выписали на гражданку, пусть и без пенсии…
— Это его приказ был? Этого твоего командира? Который ты нарушила.
Маргарета безразлично кивнула, а Макс выплюнул:
— Он просто прикрыл тобой свою задницу. Запугал, чтобы ты заткнулась, а ему за тот приказ ничего не было.
Она кивнула снова.
Эта мысль пришла к Маргарете ещё несколько месяцев назад. Тогда над станцией зарядили по-зимнему противные холодные дожди, и Маргарета часами сидела у мутного окна, ничего за ним не видя. Она не могла заставить себя ни читать, ни даже разогреть нормальной еды. Просто грызла сухари горстями, не чувствуя вкуса и того, как болит исцарапанное нёбо.
Раньше, до войны, колледжи набирали совсем немного будущих всадников, и только самых талантливых: сама Маргарета, хоть и мечтала о небе, не смогла поступить. Потом, когда стрелок на виверне стал важнейшей боевой единицей, а снабжение фронта держалось на драконах, летать забирали всех, кто был способен хотя бы на тень связи со зверем. И когда война закончилась, на бирже труда оказалось вдруг много тысяч людей, умеющих только летать и стрелять.
Нормальная лётная работа доставалась другим: героическим, в звании, здоровым — чего греха таить, мужчинам. Никто не торопился нанимать девчонку рабочей специальности, без единой записи в личном деле и с кривой спиной, пусть даже теперь у неё была правильная фамилия. У Маргареты не было ни образования, ни средств, чтобы хоть как-то дотянуть до его завершения, ни, признаться честно, желания жить. После ранения для неё были закрыты заводы и стройки, дом разнесли безымянные мстители, а от семьи никого не осталось.
Тогда Маргарета попросила бывшего командира о помощи, и он не отказал: выхлопотал место здесь, на метеостанции. Она долго была ему благодарна, и только зимой поняла, что руководить им могли отнюдь не отеческие чувства или забота.
В столице тогда делили людей на героев разных масштабов, предателей и всех остальных. Наверное, и командир получил какую-нибудь красивую железяку на яркой ленте, «за умелое руководство» или что-нибудь ещё.
— Как его фамилия? — мрачно спросил Максимилиан. — Я наведу справки. Нужно будет обратиться в комиссариат, восстановить документы, собрать свидетельства…
— Зачем? — она пожала плечами. — Оставь.
— Ты тухнешь здесь, пока эта скотина…
— Да пусть его.
Макс с видимым усилием проглотил слова. Потом дёрнулся, будто хотел спросить что-то ещё, но промолчал.
Зимой Маргарета плакала несколько дней подряд. Рыдала в голос, с некрасивыми хрипами и воем. От невыносимой обиды, от жалости к себе, от всего того, что вышло в итоге уродливым и отвратительным, от того, как плачет в щелях старой станции ветер.
Потом отболело, отгорело. Прошло.
Да и не в этом ведь дело, да?
Только вот в чём?
А в разводном супе