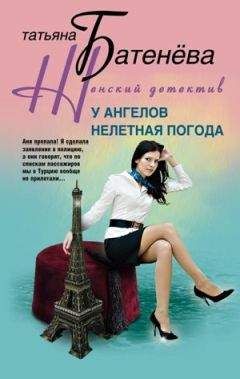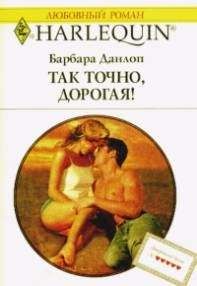улюлюкала, но потом смутилась и замолчала.
Она была такая красивая — в этом своём жёлтом платье с накрахмаленными кружевами. Ветер трепал юбку, открывая колени, и девушка иногда зябко приобнимала себя за плечи. Макс с утра уговаривал её надеть пальто или хотя бы не мучить себя каблуками, но Маргарета упрямилась, а теперь тихо страдала, — хотя Макс, вздохнув, уступил ей свой пиджак.
Рябина заложила последний вираж и пошла на посадку. Тогда Маргарета глянула на него, чуть порозовев:
— Идём?..
Макс галантно подставил ей локоть. Маргарета вцепилась в него, как в перила, и ковыляла на каблуках, покачиваясь и иногда ойкая. Так они и шли по бугристой мостовой, через толпу, и так же поднимались по ступеням тихой местной церкви.
Она была такая, как хотела Маргарета. Маленькая и скромная, и чтобы священник со светлыми глазами. Макс затруднялся понять, что им за дело до цвета глаз служителя Господа, но, в конце концов, девушка имеет право на свои странности!..
Гостей никто из них не хотел: все близкие посмотрят и так, с Неба, а дальним нечего здесь делать. Маргарета жалась к его плечу и отчаянно стеснялась цветного платья, а Макс чувствовал только, что даже всё то железо, что лежало в футлярах в его шкафу, показалось бы ему сейчас невесомым.
Букет у неё был — из ромашек. Всё утро Макс шутил, что надо было не покупать цветы из оранжереи, а свернуть из бинта, по-старинке. Она даже разок улыбнулась и всё-таки не прогрызла в щеке сквозную дыру.
Зато теперь, здесь, она совсем успокоилась и разулыбалась. А у Макса почему-то дрожали руки. И вообще всё дрожало внутри, пока он говорил свои клятвы и ставил свою подпись в книге.
Он поцеловал её у алтаря, а потом ещё раз, у самых дверей. Прижался лбом к её лбу и выдохнул едва слышно:
— Жаль…
— Ты чего это, — она упёрла руки в боки, — уже начал оплакивать свою холостяцкую жизнь? А нечего мне тут! А раньше надо было!..
— Жаль, что мама не видит. Она бы хотела…
Маргарета притихла, схватилась покрепче за его руку, сплела их пальцы. И сказала негромко:
— Жаль…
Он отворил двери, и солнце больно ударило в глаза, — так, словно в них снова расплылась тьма. Но Макс проморгался, прикрыл лицо ладонью, прищурился, и тьма отступила. Из неё выплыла шумная цветная площадь, и синее небо, и столпившиеся кирпичные дома.
А на крыльце, почти в самом центре верхней ступеньки, лежало белое перо.
Совсем небольшое, пушистое, лёгкое. Ветер трепал нежные волоски, и казалось, что вот-вот он подхватит пёрышко — да и унесёт куда-то далеко-далеко.
Макс торопливо шагнул вперёд, наклонился, сцапал острый кончик пальцами.
— Макс? Что такое?
Он выпрямился. Перо лежало у него на ладони, обласканное ветром, — белое-белое, без единого пятнышка. Даже солнце не желтило его, а будто заставляло светиться изнутри. Вокруг — шумная цветастая толпа, пахнет гретым хлебом, пряностями и осенью, ветер промозглый, и клёны стояли алые-алые, будто объятые пожаром.
И ни одной птицы. Нигде нельзя было углядеть даже голубя, всех их распугали суета и хлопающие виверньи крылья. Но перо…
— Красивое, — Маргарета вцепилась в его локоть, прижалась к плечу покрепче и только потом сунула свой любопытный нос.
— Это хороший знак. Добрый. Это значит, что… кто-то смотрит сверху и считает, что мы поступаем верно.
— Как будто ты сомневался, — она нахохлилась и дурашливо надула губы, а потом переспросила: — Откуда это? Я никогда не слышала…
— Из одного письма. Старого, из прошлой жизни. Покажу его тебе, если не будешь дразниться.
— Но я буду дразниться!
— Не будешь.
Они снова посмотрели в небо. Виверны больше не летели, небо опустело, и только ветер трепал облака. Там, наверху, было светло и холодно, ветер бился и гудел, там были свобода, и красота, и жизнь. Праздник почти отгремел, от базы дали сигнал, и всё вернулось на круги своя, привычное и новое одновременно.
Для кого-то небо, пустое и бесстрастное, было коридорами. Погода считалась лётной, — и этими коридорами поднимались один за другим драконы.