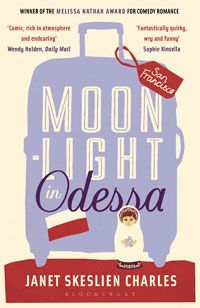Я не столько вижу, сколько чувствую очертания животного — его черную тень, не более: вот тень встает, нюхает открытую дверцу. Между участком и лесом нет забора; в четыре прыжка зверь может нырнуть в безопасную тьму. Мне кажется, я вижу блеск его зубов, влажный нос, глаз.
Может быть, стоит подстегнуть лиса к побегу? Вряд ли, ни к чему это.
Я слышу запах собственного пота, шорох одежды, в конце концов до меня доходит: чтобы лис смог удрать, мне надо уйти.
Остается лишь верить, что в какую-то минуту долгой ночи лис, набравшись храбрости, покинет клетку, в которой был заперт навсегда, и скроется в бескрайней, непредсказуемой тьме.
Пять дней я брожу по острову, сплю на длинных пустынных пляжах или в сараях. Ночи такие холодные, что я мерзну даже в альпинистском спальном мешке, а шелест набегающих на песок волн не дает уснуть. Людей почти не вижу, за провизией хожу в редкие здесь деревушки вполне современного вида; я очень привязался к деревьям, свыкся с мокрой одеждой. У меня начал болеть живот — возможно, из-за резкой перемены в питании, — и время от времени тело сотрясает нутряная гриппозная дрожь. Я отправляю открытки отцу и нескольким друзьям, в том числе Говарду, — но не Милли. Об избиении не пишу ни слова. Ребро при вздохе болит уже меньше, швы рассосались. Форма носа чуточку изменилась, но различие почти столь же ничтожно, как между Рексом и Лансом.
Однажды утром — по-моему, на третий день — просыпаюсь в лесу совершенно больным, а поскольку человек я мнительный, немедленно начинаю волноваться: вдруг у меня проявились запоздалые симптомы сотрясения мозга? Недомогание, однако, проходит, и я поспешно выхожу из леса, из собственного молчания и страха смерти, куда-нибудь поближе к людям.
По дороге набредаю на пулеметные установки, клубки путаной колючей проволоки, загадочные бетонные бугры. Все это действует на меня угнетающе. На широких, усыпанных гравием дорогах машины очень редки. Всякий раз, заслышав шум мотора, я жду, что автомобиль замедлит ход, из салона донесутся приветственные возгласы. В любую деревню захожу с тайной надеждой встретить там Кайю. Любого малыша, что топчется возле полок со сластями, принимаю за Яана. Однажды, продравшись сквозь густой ельник, вдруг вижу перед собой лишенный растительности альвар, он тянется вплоть до поблескивающей вдали полоски моря. Возможно, это тот самый альвар в заплатках лишайника, по которому шесть лет назад мы так осторожно ступали, боясь повредить это хрупкое природное явление, и Кайя, словно предвидя, что с нами произойдет, мимоходом заметила, что любая жизнь — это тоже альвар. Вероятно, резкие ветра до гладкости выскоблили вышедшую на поверхность породу; в другом месте, тоже показавшемся мне знакомым, эти же ветра засыпали песком кучку низкорослых сосенок, столпившихся за пляжем.
Я начинаю разговаривать сам с собой глухим монотонным голосом. Могу подолгу наблюдать за птицей, бестолково суетящейся в подлеске, за жуком, ползущим по прутику, за волнами, со вздохом тыкающимися своими завитками в белый песок; в прежней жизни мало что, кроме фильмов, концертов, компьютера или лица спящей Милли, занимало мое внимание так надолго.
Однажды остаюсь на ночевку возле речушки; просыпаюсь рано, только-только начало светать, и буквально следую совету Корнелиуса Кардью: в своей книжечке «Музыка скрипа» он, помнится, предложил: «Настрой ручей, передвигая в нем камешки». Часа два я настраиваю речку, ворочая довольно крупные валуны — такие и вправду могут преобразить мелодию водных струй; камни с недовольным чавканьем покидают свое ложе, чтобы изменить музыку воды.
В конце концов, я настраиваю поток на ля. Закоченевшие руки почти не действуют. Целый день сижу у ручья, сочиняю, записываю результат на купленных в Таллинне нотных листах, точу карандаш швейцарским складным ножом и снова царапаю грифелем по бумаге. Ночью мне снятся строчки нотных знаков, выведенные тонкими темными водорослями на белом песке, я пытаюсь прочесть музыку, прежде чем набежавшая пена смоет ноты.
В назначенный час по Радио-3 передают «Серые дни». В полном одиночестве я сижу на эстонском острове в высокой траве и мысленно слушаю свое произведение, а музыка воды омывает меня сверху, снизу, изнутри.
Когда я появляюсь на пороге дома, где живет мать Кайи, я уже не прежний бледный лондонец и вообще не сильно похож на городского жителя. Скорее, на огородное пугало. В волосах сено, под ногтями песок. На ногах ботинки, которые во времена моей юности назывались «бутсы для братанов» — грубые, с утяжеленными носами. На спине потрепанный армейский рюкзак: очень не хотелось шататься по Эстонии разодетым, как для фотосессии. Рюкзак раздут, его распирают с трудом поместившийся набор для крикета и спальный мешок. Вдобавок, мое лицо обросло щетиной, причем весьма пестрой расцветки. Все это время, за исключением негромкой музыки в сельских магазинах, я совершенно бесплатно слушал один и тот же напев — завывание ветра. Мои травмы хоть и не бросаются в глаза, но все же заметны. Уху, превращенному в окровавленный ошметок мяса, удалось вернуться к своей исконной форме.
Я рассчитывал бродяжничать несколько недель, но пяти дней хватило с лихвой.
На углу возле жилого массива теперь вырос большой, ярко освещенный гипермаркет; не могу припомнить, что там было раньше. Возможно, пустырь. Или деревянные сараюшки. Уж не бывший ли муж Кайи строил этот огромный магазин? Я вхожу, покупаю коробку шоколадных конфет и бутылку вина. Ассортимент здесь еще меньше, чем в «Лидл», но выглядит супермаркет ярче и новее. У меня даже поднимается настроение. От магазина? Еще чего не хватало.
Дверь открывает мать Кайи.
— Здрасьте. Это я, Джек. Приехал повидаться.
Лицо у нее недовольно кривится. Она сильно постарела. Я, надо полагать, тоже. Приветливо улыбаясь, протягиваю ей конфеты и вино.
— Ничего, что зашел? Я в отпуске.
Не знаю, насколько она в курсе событий. Приходится играть вслепую. Не исключено даже, что сейчас у нее Яан. Или Кайя. Я действую наобум, шагаю не глядя, полагаясь на то, что уже пройдено.
— Хорошо, — повеселев, говорит Маарджи. — Прошу, прошу.
В квартире ничего не изменилось, разве что прибавилось семейных фотографий. На кухонном столе стоит портрет Микеля в рамке — будто Маарджи его только что рассматривала. Черно-белый телевизор работает отвратительно, передают, судя по всему, скверно дублированный американский детективный сериал; дело происходит в каком-то городе вроде Чикаго. Маарджи пододвигает кресло, я усаживаюсь. Оно издает тот же скрипучий вздох, что и шесть лет назад, — уже приятно. Маарджи заваривает кофе и достает из закромов масляное печенье с фабрики, на которой она когда-то работала. Хорошо бы она выключила телевизор, но это ей в голову не приходит; меня отвлекает взволнованный диалог героев, ритм речи, сцены насилия. Я ни о чем не спрашиваю, лишь роняю пустые вежливые фразы про остров, квартиру, кофе. Мы оба осторожничаем, прощупывая друг друга. Сознаем, что здесь кое-кого не хватает. Двоих. Даже троих, если считать Микеля.