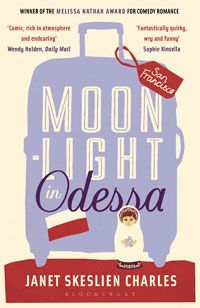Но сначала, по настоянию Маарджи, надо принять душ. Как у любого настоящего бродяги, чистой смены белья у меня нет.
Я раздеваюсь в бывшей Кайиной комнате, где шесть лет назад мы предавались любви, пока Маарджи болтала по телефону с теткой. Здесь ничто не изменилось: на подоконнике та же фарфоровая белочка просит нас остановиться, пока не поздно. Но мы не остановились. И в результате на свет появился Яан, в этом у меня почти нет сомнений.
Грязь явно не желает расставаться со мной, особенно упорствуя на щиколотках. После душа я ощущаю запах от моей одежды, он куда крепче, чем я предполагал, но хотя бы не отталкивающий.
Убедившись, что я принял душ, Маарджи звонит Кайе; в потоке эстонской речи я улавливаю свое имя, оно настойчиво повторяется несколько раз, подкрепляемое кивками головы, словно на том конце провода Кайя выражает недоверие. После чего трубка переходит ко мне. Сердце подкатывает к самому горлу.
Голос у Кайи обеспокоенный, а не удивленный.
— Ты меня преследуешь?
— Нет.
— Нет?
— Кайя, пойми, я просто скучаю по Яану. В гостинице я проверил коробку с бумажными салфетками. Моя почти пуста. Мама умерла, жена меня бросила.
— Правда?
— Да.
Пауза. Кайя вздыхает. По-моему, на заднем плане слышится голос Яана.
— О Боже. Очень жаль твою маму.
— Зато жены не жаль, — почти шутливо добавляю я; надеюсь, она догадывается, что я улыбаюсь.
— Из-за меня, да?
— Нет, она ушла из-за меня.
Интересно, насколько разочаровал ее мой ответ.
— Ты не намерен увезти его отсюда?
— Похищение детей, вообще-то, не по моей части. Слушай, Кайя, мне надо тебе кое-что сказать. Идея безумная, но тут уж ничего не поделаешь. Сейчас обсуждать не хочу, это не для трубки.
— Для чего?
— Не по телефону.
— Тоомас, мой муж, знает про тебя. Он будет тревожиться.
— Скажи ему, пусть зря не тревожится. Не настолько все безумно. Я не хочу давить на тебя, но все-таки у меня есть какое-то… гм… Мне же позволено видеться с сыном, верно?
— Да, когда тебе удобно.
— Кайя, это нечестно. Сама убедишься, когда услышишь то, что я хочу сказать. Прошу тебя.
Велосипед висит на крюке в котельной, он похож на гигантские очки на носу великана. Какое-то время уходит на то, чтобы накачать шины, одна из-за долгого бездействия все равно потихонечку спускает. Поскольку ехать надо по грунтовой дороге, придется разок-другой остановиться, чтобы ее подкачать. Седло тоже разболталось, я едва не сползаю с него назад, на раму. Детский набор для крикета висит у меня за спиной наподобие гитары; для верности я привязал его к себе бечевкой. Случайный прохожий удивленно таращится на меня. В бесформенной шляпе и чумазой туристской куртке я наверняка сойду за образцового английского чудака.
Или за отъявленного мерзавца.
Хутор стоит в стороне от основной щебеночной дороги, к нему ведет заросшая тропа; поодаль высится большая церковь, в войну разрушенная и потом частично восстановленная. Я проезжаю мимо двух-трех домишек, притулившихся у проселка; возле каждого — небольшие грядки с овощной рассадой и ветхие машины. Старик со старухой приветственно машут мне руками. Один заброшенный дом держится только благодаря набитым крест-накрест балкам и еще не обсыпавшейся дранке; рядом темнеет распахнутый настежь сарай. Еду еще пять минут мимо распускающей листочки березовой рощицы и пары лужков и натыкаюсь взглядом на деревянный почтовый ящик в виде башни со шпилем. Чтобы опустить в ящик послание, надо открыть увенчанную шпилем крышу.
Вот и приземистый, вросший в землю хутор, из соломенной крыши выглядывают чердачные окошки; рядом покосившийся амбар; зеленый двор. Все скромно и безыскусно красиво. Деревянные скульптуры в виде гигантских штопоров придают хутору нотку богемности. Старый синий «сааб» с перекрашенной в фиолетовый цвет правой передней дверцей смахивает на типичную живописную развалюху семидесятых годов; в таких любили странствовать английские хиппи. Окружающие дом деревья — в основном березы и ольха — дружно одеваются молодой листвой. Время от времени сквозь облака проглядывает солнце, воздух полон запахами травы, лесного перегноя и навоза. Несколько кур, наслаждаясь свободой, самозабвенно роются в земле; белые птицы (по-моему, утки) плещутся в корыте, взбираясь в него по гладко оструганной доске.
Такое впечатление, что дом замкнулся в себе, целиком погрузившись в свою тихую жизнь, но никакой неприязни от него не исходит.
Они меня ждут. Тоомас — величина неизвестная, возможно, с ним будет нелегко. Или, напротив, он окажется открытым добродушным малым с серьгой в ухе.
Зад ноет после езды на шатком седле. Я делаю глубокий вдох и расправляю плечи. Мне нужно держаться уверенно.
Ступив на расшатанное крыльцо, звоню в маленький, как у Пярта, колокольчик, висящий на неполированной двери. Все это похоже на сказку. Кто-то набрал в старинную тарелку плодов то ли шиповника, то ли розы и поставил ее на полку. Созревшие несколько месяцев назад ягоды и сейчас слепят кровавым багрянцем. К двери никто не подходит. Я громко стучу в нее костяшками пальцев. Нет ответа. Сжавшись, налегаю плечом на тяжелую дверь, она приоткрывается, я заглядываю внутрь и вижу перед собой грудь Кайи. Кое-как распрямляю спину и улыбаюсь.
— Привет! — произносит она. — Боже, ну и шляпа!
— Я звонил, но… — смущенно бормочу я.
— У нас играло радио.
— Ничего, это пустяки.
— Ну, проходи, пожалуйста.
Шаркая ногами и мысленно кляня себя, вхожу; лучше бы я не приезжал. Кайя прикладывает ладони к щекам:
— Безумие какое-то!
— Точно, — соглашаюсь я. — Прошу прощения.
— А что у тебя с носом и головой? Опять кто-то ударил?
— Вообще-то, я собирался сказать, что упал в Лондоне с велосипеда. На самом деле меня и правда побили. В Таллинне. Пьяные англичане.
— Ты сам напросился?
— Возможно.
— Ты тоже был пьян?
— Что ты, как стеклышко. Ни в одном глазу.
Кайя хмурит брови. Без толку все это. Мне здесь не место. Я поворачиваюсь, чтобы уйти, но тут она зовет Яана. Ответа нет. Она велит мне ждать и, открыв низкую дверь в углу комнаты, выходит.
Я жду; чувство такое, будто я в утлой лодчонке тихонько плыву над бездной моей души.
Вся обстановка, за исключением отливающей металлическим блеском стереосистемы, сделана из темного дерева. Воздух в комнате чуть отдает торфом, землей, — возможно, от горелых поленьев в очаге. Запах напоминает мне те мелкие болотца, что чавкали у меня под ногами в дни моих лесных странствий, но и в нем есть своя приятность.