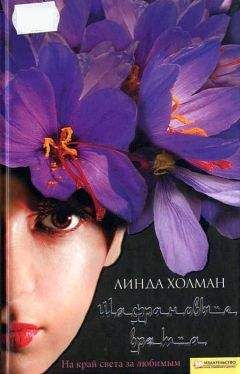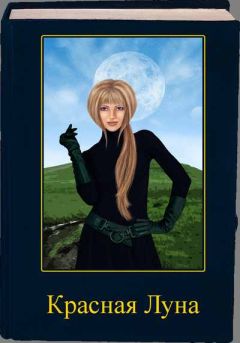А потом я стала спускаться по узкой вонючей лестнице. Я была ужасно голодна, поэтому направилась через вестибюль к кафе. По смеху и возбужденным голосам стало понятно, что Элизабет и ее друзья все еще там. После увиденной мной удивительной красоты кафе казалось мрачным и грязным, бесформенным и бесцветным. Я почувствовала, что, как и молитва, увиденные краски проникли в меня; как только я вошла в дверь, Элизабет, Маркус и все остальные прекратили пить и болтать, сразу же затихли и с удивлением уставились на меня. За недолгое время, проведенное на крыше, я почувствовала, что стала частью пестрого Танжера, его отголоском и оттенком.
Но когда я шла через зал, никто не повернулся, никто не прореагировал. Я вышла на просторную террасу с деревянной мебелью и тихо покачивающимися пальмами в горшках, откуда открывался вид на гавань. Кроме меня здесь никого не было. Я заказала чайничек зеленого чая с бастилой, которая, как объяснил официант, была начинена мясом какой-то птицы — я не смогла понять, то ли куропатки, то ли голубя, — с добавлением риса и измельченных яиц. В ожидании заказа я положила голову на высокую спинку стула, слушая отдаленные приглушенные обрывки фраз, произнесенных на незнакомых языках, воркование голубей где-то поблизости, даже мягкий шелест пальмовых ветвей, колышущихся под теплым вечерним бризом. Он был прекрасен, Танжер, хотя, как я знала из книг и от эксцентричной Элизабет Панди, также опасен и неуправляем. Этот свободный порт не подчинялся ни одной из стран. Я устала, но зато преодолела равнодушие, что уже было похвально. Но я не буду — не смогу — останавливаться для отдыха в Танжере. Я выпрямилась и встряхнулась, чтобы не поддаться подступающей слабости. Завтра я отправлюсь на поиски водителя, который отвезет меня в Рабат, как советовал американец с парома.
Поставив передо мной поднос, официант взял небольшой медный чайник. Подняв его высоко над маленьким разрисованным стаканом в серебряном подстаканнике, он налил чай — в стакан ударила густая янтарная струя. Я думала, что с такой высоты чай будет разбрызгиваться из стакана, но официант наполнил его доверху, пока не образовалась пенка, не расплескав ни капли. Затем он вылил все обратно в чайник и снова налил — этот процесс он повторил трижды. Наконец он поставил чайник, поднял стакан обеими руками и протянул мне, слегка поклонившись.
— Tres chaud[23], мадам, — сказал он. — Подождите, пожалуйста. Пусть остынет.
Я кивнула и, держа стакан за серебряный подстаканник, поднесла его к губам. Аромат мяты забивал остальные запахи. Я сделала маленький глоток — чай оказался очень сладким, я такого еще никогда не пила, но он был просто бесподобен.
Я подумала о доме на окраине Олбани. О моем саде и о тишине, царящей там в вечернее время. Если я не решалась выйти за ворота на Юнипер-роуд, в течение долгих дней я никого не видела и ни с кем не разговаривала. Я вспомнила длинные зимние ночи. Сейчас все это было так далеко! Это и правда было далеко, географически, конечно. Но дело было не только в расстоянии. Дело было еще и в том, что произошло со мной с тех пор, после тех бесконечных тихих дней, когда я считала, что моя жизнь всегда будет протекать именно так. Ведь тогда моя жизнь состояла как бы из небольших, определенной формы кусочков большого, но, по сути, простого пазла. Тогда я была уверена, что всегда найду место каждому отдельному маленькому пазлу.
Это было двумя годами ранее — в 1928-м, когда мой отец получил письмо от адвоката.
— Прочти его мне, дорогая, — сказал он, явно волнуясь. — Даже представить не могу, что я сделал не так.
— Это не означает ничего плохого, папа, — сказала я, разворачивая письмо и просматривая его.
— Тогда скажи скорее, о чем там говорится?
Я посмотрела на него.
— Папа, мистер Хардинг умер.
— Что ж! — Отец, сидевший за кухонным столом, вздохнул. — Бедная добрая душа, я знал, что он уже некоторое время болел.
Мистер Хардинг был его последним работодателем и оказал ему помощь, когда вынужден был уволить моего отца, проработавшего на него четырнадцать лет.
— И о чем же пишет мне адвокат? — спросил он.
Я облизнула губы от нетерпения. Конечно, мне было жаль, что мистер Хардинг умер, но ему было уже девяносто два года.
— Ты же помнишь его автомобиль, — сказала я.
— Какой именно? Потому что у него их был целый автопарк, — уточнил отец.
— Папа, тот, который ты больше всего любил водить. Ты всегда рассказывал о нем.
Он поднял голову и улыбнулся.
— Ах да! Чудесный «Силвер Гост», это он? Настоящий красавец. Водить его было словно плыть на облаке.
Я прекрасно знала о модели «роллс-ройса» 1921 года с британским правосторонним рулем, кожаной откидной крышей, фарами в форме цилиндра и трубчатыми бамперами.
— Длинный гладкий белый корпус с красно-коричневой отделкой, — продолжил отец, расплываясь в улыбке. Он поднял свою трубку и постучал ею по пепельнице, вытряхивая комок недокуренного табака. — Я и вправду любил водить эту прелесть, — сказал он.
— Папа! — Я встала, не в силах больше сдерживать улыбку. — Мистер Хардинг оставил его тебе. Это указано в его завещании, папа. Автомобиль теперь твой. — Мой голос стал громче от волнения.
Но отец оставался очень спокойным, когда я сказала это. Я ждала чего-то — восклицания, взрыва смеха, еще чего-нибудь, но он не двигался.
— Папа, разве ты не счастлив? Ты же сам только что сказал…
Он кивнул.
— Знаю, девочка моя. Да, я это сказал.
— Тогда почему же ты…
Он снова перебил меня:
— Теперь слишком поздно, Сидония. Прошло время, когда я мог быть владельцем автомобиля. Ты же знаешь, что теперь я не могу доверять своим глазам.
— Ты все еще можешь водить его в дневное время, при ярком свете, — возразила я.
Он посмотрел на меня.
— Нет. Нет, Сидония. Даже в очках я теперь не вижу достаточно хорошо.
Я села и провела пальцами по тисненому фирменному бланку письма.
— Но он твой, — сказала я.
— Что мне с ним делать?
Я выпрямилась.
— Его могла бы водить я, папа. Ты мог бы научить меня, и я возила бы тебя. Всюду, куда бы ты ни захотел поехать. — Я говорила быстро, воодушевившись этой идеей. — Только подумай, папа! Мы сможем поехать куда только захотим.
Воцарилась тишина.
— Папа? Я могла бы его водить, — повторила я.
— Нет, Сидония, — сказал он, набивая трубку.
— Что значит «нет»? — Я наблюдала за тем, как он большим пальцем приминал табак в трубке. — Конечно, я могу научиться водить. Не думаю, что это слишком сложно для меня.