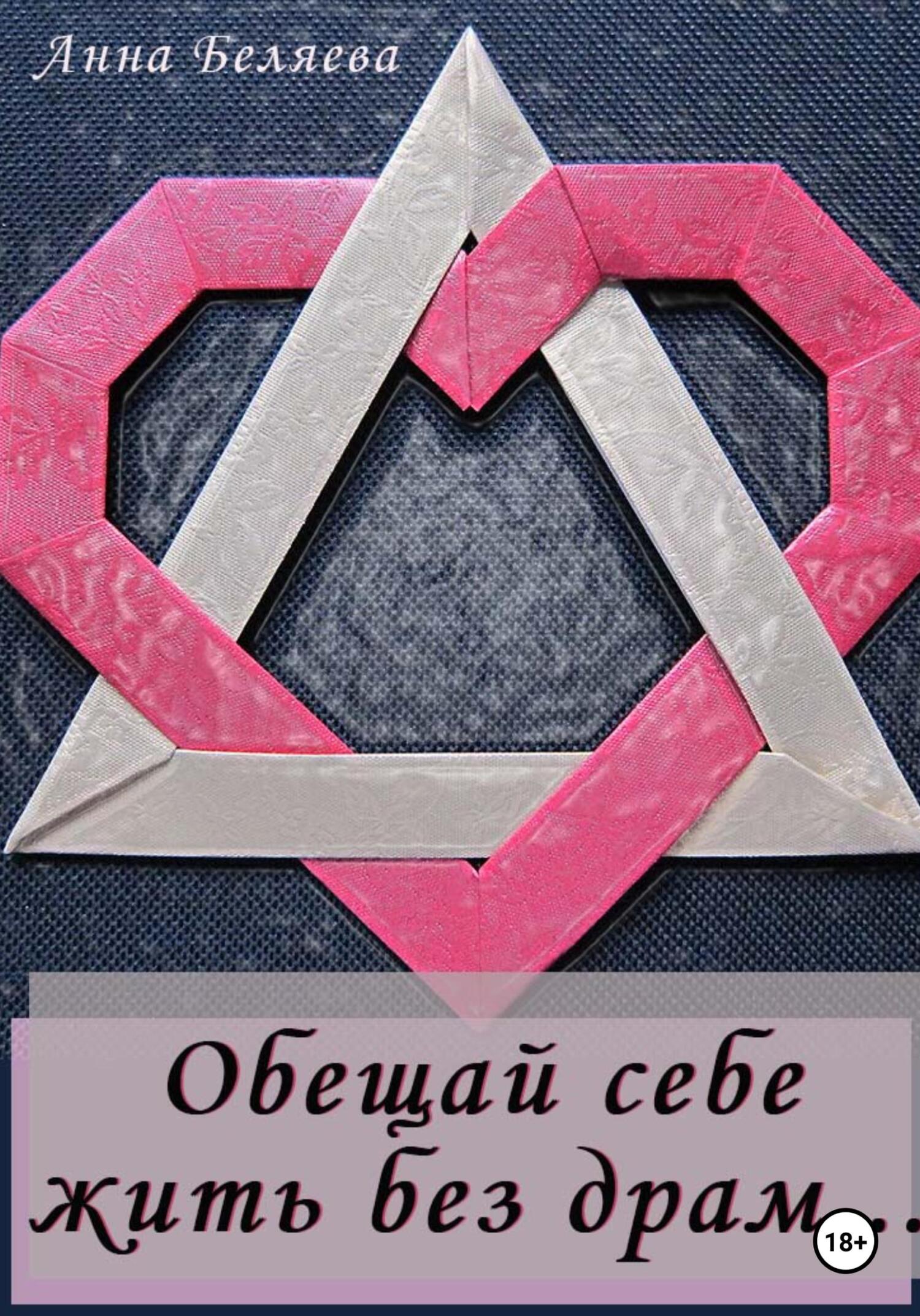— И в чем тебе там надо разбираться?
— А хрен тебя, — говорю, — знает, в чем мне там надо разбираться.
Он садится рядом со мной на диван, а я не обнаруживаю желания придвинуться к нему ближе, чтобы начать разбираться.
«Следить за счетом» оказывается неимоверно нудно, поэтому я вскоре снова ухожу на кухню — доделывать неправильный плов.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ Люмумба
Хоть спонтанное знакомство с мамой и не заладилось, но выходные проходят на удивление неплохо.
Во-первых, несмотря на то, что немцы прояривают, после матча Рик с хорошим настроением заходит ко мне на кухню и совершенно неожиданно принимается мне помогать. При этом выясняется, что играла не Херта, а Лейпциг («Ты че, Херта — в ЛЧ... да я б на радостях заранее нахерячился...»), и проиграли они не итальянцам, а англичанам. Бог с ними. Я до сих пор пребываю в некотором замешательстве и особо с ним не разговариваю. Его это не напрягает.
Во-вторых, ему нравится обед, который мы вместе с ним приготовили. Он даже спрашивает:
— Как это называется?
— Неправильный плов.
— По-моему, правильный.
— М-м, спасибо за комплимент. А ты ел правильный?
— Да. В «Самарканде».
Понятия не имею, хорошо ли его там готовят, в Кройцберге.
— Тогда приятно вдвойне, — замечаю только.
Затем вкратце объясняю, что меня связывает с Самаркандом — настоящим.
Забавно, но в Самарканде когда-то познакомились отец и мама. Родилась-училась-то мама в Ленинграде, а в Самарканд ездила на каникулы — «посмотреть» город.
— Мой папа родом из города Шахризабса. Это недалеко от Самарканда.
Рик слушает безэмоционально, но, как я теперь знаю, внимательно. А я рассказываю ему про то, что после войны, прежде чем перебраться в Шахризабс, дедушка строил Янгиабад, в котором потом добывали уран, а теперь местные приезжают зимой кататься на лыжах, как будто в узбекскую Швейцарию. Отмечаю, что неправильный плов от моих рассказов кажется только вкуснее — по-моему, в нас нормально его влезает.
Рассказываю дальше — как к моменту встречи с мамой папа уже учился на физмате в Ташкенте, как оказался в Самарканде «по личному делу» — приехал знакомиться с девушкой, которую ему прочили в невесты.
– И познакомился. С мамой. В одном автобусе ехали.
Рик, до этого евший молча, даже на мгновение поднимает на меня глаза — мол, я это серьезно?
Не знаю, каким образом их угораздило не растерять друг друга. Будучи в аспирантуре, папа «забрал» маму — молодого специалиста, педагога-«математичку» в солнечный Узбекистан. Потом свадьба и медовый месяц, которого не было. Потом — общежитие. Потом — я. Потом, через два года — Берлин. И пусть то, что они создали когда-то, спустя много лет развалилось в Берлине — зарождалось оно в Самарканде.
— Я с ним говорил, — спокойно сообщает Рик. — С твоим отцом. Он грамотный. Ты к нему не ездишь, потому что твоя мать против?
Не без огорчения подмечаю, что у него, по-видимому, успела сформироваться некая неприязнь по отношению к моей маме.
Но даже не это застает меня врасплох:
— Да... с чего ты взял, что не езжу?
— Мачеха не принимает?.. — чуть резче.
— Какая мачеха? — до меня и не сразу доходит, что он подразумевает Пину. — А-а... Да не-е, все нормально. Просто сложно сейчас... пандемия и все такое.
— М-гм-м. «Просто-сложно». Ты там была когда-нибудь?
— Где?
— В Узбекистане. После.
— Не-а. Не приходилось как-то. Я природу люблю.
Будто это взаимоисключаемо или будто в Узбекистане некрасивая природа.
Удивляюсь его расспросам. Сам он наглухо замалчивает собственное прошлое, как и всё, хоть сколько-нибудь связанное с его семьей. Мне хочется порасспросить о его детстве, но, по-моему, он и теперь не станет рассказывать.
Все же от моих излияний «обо мне» все в этот вечер делается необычайно теплым и уютным. Секс получается нежным и даже трогательным: его почему-то тянет на оральные ласки, миссионерские позы и долгие, сладостные поцелуи. В полусне отмечаю для себя, что, видимо, почаще нужно погружать его в мое прошлое. А ночью мне снится, что я либо где-то загораю, либо просто нахожусь не то в сауне, не то в духовке, не то еще в каком-то неимоверно жарком месте.
***
На этом выходные не кончаются, потому что — в-третьих — есть же еще и воскресенье.
Воскресным утром от моего жаркого сна меня не менее жарко и ласково будят губы.
М-м-м... как приятно просыпаться от поцелуев. Как приятно, когда, разбудив-расцеловав, губы настойчиво спрашивают:
— Термос где у тебя?..
Пока соображаю, что это — глюк или сон мой не кончился еще, губы вместо того, чтобы целовать, продолжают меня пытать:
— Я говорю: термос у тебя есть ваще?..
— Какой термос?..
Вспомнить бы для начала, где я.
— Э-эх... — отмахивается от меня Рик.
Да, это он, и губы тоже его (а чьи еще).
Очевидно, Рик впечатлился моей сказкой про метаморфозу Янгиабада в узбекскую Швейцарию, поэтому поднял ни свет ни заря и теперь тащит прямо в неприятную, колкую февральскую рань. Мы едем в Рудные Горы кататься на лыжах.
Правда, ни у него, ни у меня лыж нет. Нет даже лыжных костюмов, что обнаруживаю, проснувшись в дороге.
Но Рик лишь с энтузиазмом отхлебывает подаваемый ему кофе. Ума не приложу, где, но нашел-таки термос. Это доходит до меня не сразу, поскольку я с трудом помню, как мы собирались, и как я очутилась в машине. Кажется, он подгонял меня и говорил, чтобы одевалась теплее. В ответ на мои сонные колыхания относительно костюмов Рик уверенно заявляет, что ничего, мол, будем без костюмов.
Я впервые отправляюсь на лыжню и до сих пор не имела представления о том, что это такое. У нас в Берлине даже снега сейчас нет. Поэтому у меня уже по дороге захватывает дух от того, что тут даже деревья белые, а когда вылезаю из машины, на меня при виде самой что ни на есть белой зимы накатывает самая настоящая эйфория. Перед нами немногочисленный — рановато еще — народ с обмундированными детьми и лыжами навскидку тянется на лыжню, громоздко переступая в лыжных ботинках, а мне кажется, что я даже от их спин ловлю энтузиазм.
Моя эйфория держится какое-то время и не падает даже, когда я для проформы спрашиваю Рика: — А ты катаешься? — а он говорит: — Ну да. Сегодня, вот. А ты, разве, нет?..
Затем то ли начинает хотеться есть, то ли в «замаскированной» очереди за снаряжением становится нечем дышать, потому что движется она медленно — короче, запал мой понемногу остывает. А когда мне в спину втыкается мое имя, потому что меня окликают с задов очереди, я чувствую, что запал только что сошел на «нет».
— Франк, — спрашиваю, оглянувшись, — а ты-то почему без своего эквипмента приехал?..
В ответ Франк и ЭфЭм дружно смеются, а мне не до смеха.
К счастью, подходит наша очередь примерять лыжи и ботинки, а им еще стоять и стоять.
Я вообще-то не знаю, как они должны правильно сидеть, эти долбаные лыжные ботинки. Если на манер испанского сапожка, тогда «мои» мне, значит, как раз впору. Волочу ими по ковролину на глазах у Рика — ему, блин, все уже подошло — а сама чувствую, что после этой каторги можно уже никуда не ходить. Затем мы вместе с пацаном из проката решаем, что они мне, кажется, как раз, и я понимаю, что идти все-таки придется.
— Увидимся! — обещаю заскучавшим в очереди эфэмовцам и едва не сношу кое-кому из них башню своими «лыжами навскидку».
Кажется, таскать их тоже надо уметь.
Пытаюсь совершить маневр, заодно и рассмешить Рика: влезаю в лыжи по дороге на лыжню. Э-э-э... нет. Как влезаю, так и вылезаю, но ухмылку у него провоцирую.
Он ворчит снисходительно и почти ласково:
— Ниче, сейчас научишься.
— Слушай, мне б выпить для храбрости, — признаюсь, когда домучиваюсь-дохожу, наконец, вместе с ним до детского подъемника.