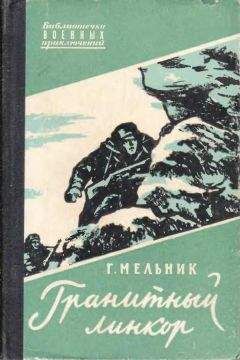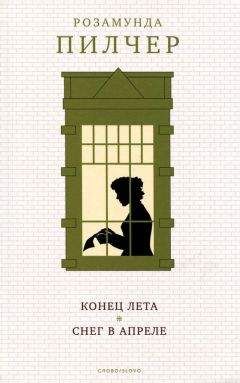— Я ничего не хочу. — Ник заметил, что Хиллари делает знак официанту, чтобы тот принес еще выпить. Он отрицательно покачал головой, и официант исчез.
— Я не ребенок, Ник. — Она уже почти шипела. Всю жизнь ее окружающие — мать, отец, гувернантки, Ник — обращались с ней как с ребенком. И только Райан Хэлоуэй, Филипп Маркхам и другие видели в ней взрослую женщину. — Я не маленькая и могу пить столько, сколько захочу.
— Если ты выпьешь слишком много, тебя замучает морская болезнь.
На этот раз она не стала спорить. Пока Ник выписывал чек, она открыла золотую с алмазной застежкой пудреницу от Картье и небрежно провела по губам ярко-алой помадой. Она принадлежала к тем женщинам, которые без малейших усилий привлекают внимание окружающих; вот и сейчас, пока они шли к выходу, многие из сидящих в зале мужчин провожали ее взглядами. Они вышли на прогулочную палубу. Нью-Йорк уже исчез из виду. «Нормандия» шла со скоростью тридцать узлов, почти не оставляя следа за кормой.
Они молча стояли, опершись о поручни; Ник размышлял над тем, что узнал о своей жене из их последнего разговора. Он никогда раньше не осознавал, насколько мучительным был для нее брак. Она хотела принадлежать только себе. Возможно, она права, ей и в самом деле не следовало выходить замуж. Но теперь слишком поздно думать об этом. Ник никогда не позволит ей уйти и не отдаст Джонни. На миг ему захотелось обнять ее, но он инстинктивно почувствовал, что этого делать не следует, и тихо вздохнул. Он часто тосковал по той дружеской привязанности, какая устанавливается между близкими людьми и какой никогда не было между ним и Хиллари. Их связывал секс, страсть, по крайней мере вначале, но покоя, который появляется, когда людям легко и удобно вместе, у них никогда не было. И сейчас он задавал себе вопрос: любили ли они когда-нибудь друг друга? Или то, что их связывало, оказалось лишь физическим влечением?
— О чем ты думаешь, Ник? — Он не ожидал от нее такого вопроса и, повернувшись к ней, грустно улыбнулся:
— О нас. О том, что у нас есть, чего нет. — Опасные слова. Но здесь, на палубе, когда ветер бьет в лицо, Ник чувствовал себя до странности свободным, как будто он попал в другой мир, где необязательно следовать строгим правилам обычной, нормальной жизни.
— И что же у нас есть?
— Я уже ни в чем не уверен. — Он вздохнул и наклонился над перилами. — Я знаю, что было у нас вначале.
— Начало было ненастоящим.
— Начало никогда не бывает настоящим. В нашем начале как раз и было настоящее. Я очень любил тебя, Хил.
— А теперь? — Она впилась в него взглядом.
— Я все еще люблю тебя. «Почему? — задал он вопрос самому себе. — Может быть, из-за Джонни?»
— После всего, что я сделала тебе? — Она признавала свои грехи, по крайней мере, иногда. А сейчас она, как и он, чувствовала странную свободу, особенно после двух стаканов виски.
— Да.
— Ты смелый человек. — Она говорила открыто и честно, но так и не призналась, что любит его. Сказать так значило бы полностью открыться перед ним, признать, что она принадлежит ему. Откинув с лица волосы, Хил смотрела на море. Ей не хотелось, чтобы Ник заглядывал к ней в душу, а может быть, она просто старалась не причинять ему боль. — Что мне надеть на ужин?
— Надень что хочешь. — Им вдруг овладела усталость и грусть. Он так и не решился спросить, любит ли она его. Может быть, теперь это не так уж важно. Возможно, она права. Они женаты. Она принадлежит ему. Но теперь он ясно понял, что думать так — заблуждение. — Мужчины будут в белых галстуках. Думаю, тебе лучше надеть что-то достаточно строгое.
Она подумала, что для такого случая черная юбка и малиновая блузка, пожалуй, не подойдут. Пока они возвращались в каюту на верхней палубе, Хил мысленно перебрала содержимое своих чемоданов и остановилась на изящном розовато-лиловом платье.
Когда они вернулись к себе, Ник заглянул в комнату к сыну, но мальчика не было — вероятно, Джонни с гувернанткой все еще путешествуют по палубам. Ник вдруг пожалел, что не пошел с сыном. Выйдя из комнаты мальчика, он увидел, что Хиллари смотрит на него. Она сняла белое крепдешиновое платье и стояла теперь в белой комбинации, красивая, как никогда. Она была из таких женщин, с которыми мужчинам хочется быть грубыми. Это не приходило Нику в голову, когда ей было восемнадцать. Но теперь он часто думал о ней так.
— Боже правый, посмотри на свое лицо! — засмеялась Хиллари глубоким грудным смехом, когда Ник приблизился к ней. — Ты выглядишь как злодей, Ник Бернхам! — Лямка ее сорочки упала с плеча, и он увидел, что на ней нет бюстгальтера. Она стояла перед ним, дразня его каждой клеточкой своего тела.
— Послушай, Хил, если ты будешь так стоять, у тебя могут быть большие неприятности!
— Да? И что же это за неприятности? — Ник приблизился к жене, ощущая тепло ее дразнящего тела. Но на этот раз он не стал играть с ней в слова. Он просто впился губами в ее губы, не раздумывая, хочет ли она этого. С Хиллари это никогда нельзя сказать наверняка, все зависит от того, насколько активным оказывается в данный момент ее любовник. Но здесь у нее нет любовника. Она на корабле, в десятках миль от берега, затерянная между двумя мирами. Она обняла мужа, он быстро подхватил ее на руки, вошел в спальню и ногой захлопнул за собой дверь Опустив ее на постель, он сорвал с нее белую шелковую сорочку. С жадностью умирающего от голода человека он приник к ее восхитительной плоти. Она отдавалась со страстью, напоминавшей о прошлом, однако теперь в ней чувствовался полученный за последние годы опыт. Но он больше не задавал вопросов, не думал ни о чем, кроме своего безудержного желания, которое, нарастая, стало наконец безграничным, и он накрыл ее тело своим. Потом они лежали обессилевшие, и он подумал, что она, конечно, права. Она, без сомнения, его жена. Но она никогда не будет принадлежать ему. И никому другому. Хиллари принадлежит только себе, так было в прошлом, так будет и в будущем. Она всегда была недосягаема для него, и теперь, глядя на нее, мирно спящую в его объятиях, он с горечью подумал, что мечтал о невозможном. Хил похожа на дикого зверька, которого стараются приручить. И еще в одном она права — он действительно втайне всегда хотел, чтобы она принадлежала ему.
Каждая из дам, появившихся в тот вечер в Большом обеденном зале, могла бы стать предметом гордости любого мужчины. Их прически и макияж казались верхом совершенства, почти все платья, тщательно выглаженные горничными, созданы лучшими парижскими модельерами. Сверкание драгоценностей соперничало с блеском освещавших комнату огней; это великолепие отражали стены из небьющегося зеркального стекла, которые были на целых пятьдесят футов длиннее, чем стены знаменитого Зеркального зала в Версале. Огромное помещение, высотой в три палубы, подобно шкатулке с драгоценностями, заполнилось рубинами тафты, сапфирами бархата и изумрудами атласа. Лиана пришла в изысканном открытом платье из черной тафты, ниспадавшем волнами оборок. Когда же в зале появилась Хиллари Бернхам, все взгляды, казалось, устремились на нее. Ее розовато-лиловое атласное платье в греческом стиле так облегало ее прекрасные формы, что на минуту все, включая капитана, затаили дыхание. У нее на шее сверкало ожерелье из крупных жемчужин. Но взгляды привлекало не ожерелье, а блестящие темные волосы, молочно-белая кожа, сверкающие черные глаза и прекрасное тело — вот она, плавно покачиваясь, спустилась по лестнице и подошла к столу капитана. Прямо за ним возвышалась огромная бронзовая статуя, олицетворяющая мир. Голова статуи была высоко поднята, но Хиллари, подходя к столу, держала голову еще выше. Ник следовал за ней, великолепный в белом галстуке и фраке, в накрахмаленной рубашке с перламутровыми, украшенными бриллиантами запонками. В ушах Хиллари, под темным шелком ее волос, также сверкали бриллианты, соперничая с пляшущими в ее глазах огоньками.