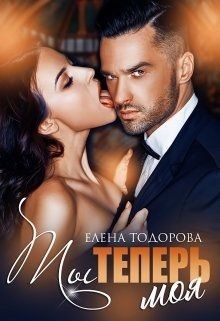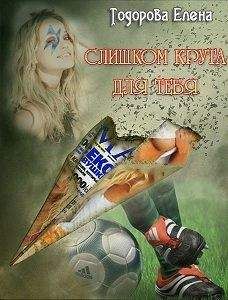Всю поляну, на которой разместился наш лагерь, занимают взлохмаченные и сонные члены моей группы. Да как занимают! Ребята стоят на коленях, а дружки братца возвышаются над ними и, судя по всему, контролируют, чтобы никто из них не вздумал подняться.
— Совсем озверели? — кричу я, пытаясь обернуться. — Больные ублюдки!
Только Бойко мне не позволяет. И эта беспомощность против него капитально усиливает мою ярость.
— Сейчас же отпусти! Отпусти меня!
— Спокойно, Центурион, спокойно, — ему по-прежнему весело. — Не ори ты так. Связки порвешь.
— Если бы могла, я бы тебя разорвала!
В ответ доносится лишь его сипловатый смех. То ли в попытках приглушить этот хриплый вибрирующий звук, то ли по другим неизвестным мне причинам… Кирилл вдруг прижимается губами к моей шее чуть ниже линии роста волос. Прижимается и на мгновение замирает. Меня же словно током пробивает. По всему телу летят колючие и горячие мурашки. Рефлекторно дергаюсь, а он… Бойко делает глубокий вдох, который я ощущаю физически. Что за животные повадки? Зачем он нюхает меня, будто я какой-то безмозглый деликатес в его пищевой цепочке? Наглая беспардонная зверюга!
Меня дико трясет. Внутренности скручивает жгучим узлом. Грудные мышцы простреливает огненной судорогой.
— Я тебя ненавижу! — спешу сообщить, хоть Бойко и плевать на это.
Небо над нами прорезает кривой и трескучей вспышкой света. И я замираю за секунду до того, как воздух пробивает жуткий грохот грома. Кто-то свыше словно намеренно усиливает мои слова. Только я сама до ужаса боюсь грозы. Тем более, когда нахожусь далеко от укрытия.
— Испугалась, ракушка, м?
Мало того, что меня безостановочно колотит мелкой выразительной дрожью, Кирилл, конечно же, чувствует, когда я вздрагиваю от звуков грома.
— Бойко, Чарушин, Фильфиневич, Георгиев, Шатохин! Я знаю, что это вы, — врывается в затянувшуюся тишину приглушенный голос профессора Курочкина. Краем глаза вижу, как ходит ходуном палатка, в которой он спал. Но выйти Виктор Степанович не может. Эти дикари, должно быть, сделали что-то с замком. — Одумайтесь! Одумайтесь, не создавайте себе проблемы. Не усугубляйте своего и без того шаткого положения. Вы поступаете очень опрометчиво…
Никто не собирается реагировать на его увещевания. По крайней мере, не так, как рассчитывает профессор. Парни переглядываются и бессовестно ржут.
— Что вам от нас надо?
— А вот это правильный вопрос, Центурион. Сейчас мы снимем небольшой фильм и уедем, — вкрадчиво проговаривает Бойко. Только после этих слов замечаю, что Фильфиневич снимает все происходящее на телефон. — Ты в главной роли.
Конечно же, после этих слов меня снова бросает в жар. Я задыхаюсь. Новый вдох попросту не способна сделать. Кирилл это улавливает. И продолжает в своей обыкновенной, иронично-придурковатой манере:
— Дыши, Вареник. Еще один обморок нам ни к чему.
— Я тебя ненавижу, — повторяю единственное, на что у меня хватает сил.
— Это хорошо, — заключает братец и вдруг отпускает меня.
Отпускает, чтобы водрузить мне на голову шлем с поперечным перьевым гребнем. Это я уже вижу в его глазах. Он смотрит на меня… Не понимаю, за что он меня так ненавидит? Не понимаю, зачем смотреть так долго и так пристально на того, кого ты на дух не выносишь?
Поджимая дрожащие губы, решительно отражаю этот взгляд. Стискиваю кулаки, пока ногти не врезаются в кожу. Громко и бурно дышу. Но шлем этот сбросить не пытаюсь. В голове, будто вспышка, мелькает догадка.
— Значит… Ты преодолел почти девяносто километров, чтобы по-быстрому сделать мне гадость?
Очередной грохот грома принимаю отстраненно. Вздрагиваю, ощущая первые тяжелые капли. Они быстро просачиваются сквозь фланелевую пижаму и жалят мое тело холодом. Только голова и защищена — спасибо братцу! Трясусь, но не отвожу от него взгляда.
Он тоже продолжает смотреть на меня.
— Я знаю, зачем ты это делаешь.
Едва я оставляю это заявление, Бойко как будто теряется. Несколько секунд, но не заметить невозможно. что-то мелькает в его расширяющихся зрачках… Какое-то чувство, распознать которое у меня не получается. Кирилл сглатывает и, приоткрывая губы, вдыхает, словно та же функция через нос ему недоступна. Или он о ней забывает.
— Говоришь, хорошо, что я тебя ненавижу? Хочешь, чтобы ненавидела еще больше, да? — выдвигаю свою теорию, испытывая большую уверенность, чем во время доклада на последнем семинаре по философии. — Ради этого стараешься? Так я тебе помогу.
Стоит мне это произнести, дождь, будто утратив робость, обрушивается на нас стеной.
— Хватит болтать, — выпаливает, глотая потоки воды и отплевываясь. — Варя бла-бла-бла, блядь… Хватит!
— Я очень сильно тебя ненавижу! Очень-очень сильно! — кричу, так же захлебываясь дождем. — С сегодняшнего дня разрешаю и тебе… Разрешаю себя ненавидеть! Не буду больше… — паузу делаю только потому, что разразившаяся буря не позволяет говорить на одном дыхании. Мало того, что без конца осадки в рот летят, так еще зубы от холода стучат. — Не буду больше пытаться с тобой подружиться!
— Отлично!
Довольным он не выглядит. Напротив, рявкает яростнее обычного. И губы кривит, словно ему на меня даже смотреть противно.
Козлина!
— Я готова, — решительно выпаливаю, поворачиваясь к Фильфиневичу. Этот придурок, к слову, уже стоит под зонтом. Вот из всей пятерки только он мог на выходе из дома прихватить этот пафосный в его случае аксессуар. Чертов пижон! — Что мне говорить? — смотрю уже не на него, а прямо в камеру.
Вопрос и моя готовность исполнять их требования явно приводят зарвавшихся мажоров в шок. Рассчитывали, что я буду плакать и умолять меня отпустить? Черта с два!
— Давай… Давай что-нибудь прикольное, — молотит Фильфиневич, старательно регулируя какие-то настройки съемки. — Стань перед своей ордой и зачитай какую-то центурионовскую фишку!
— Может, харэ? — вмешивается неожиданно Чарушин.
Обращаю на него взгляд и подавляю в себе рвущееся желание заплакать. Как ребенок, вдыхаю и замираю. Губы жую, так боюсь сорваться.
— Дождь хреначит, как из ведра, — перекрикивая бурю, сообщает Артем Кириллу, словно тот сам не видит и не чувствует. Только он может все это остановить. — Они все заболеют. Пошутили, и хватит!
— Нет, не хватит, — жестко и как-то оглушающе мрачно высекает братец. — Пусть исполняет, раз такая борзая, — переводит взгляд на меня. И дожимает со всей жестокостью: — Давай, Центурион. Сама вызвалась. Не умеешь уступать, — еще и предъявы мне какие-то кидает. Словно я сама это придумала… Будто рассчитывал, что я его упрашивать стану… Глядя на меня сейчас, хмурится, пока между бровей не образуются борозды. Стискивая челюсти, кривит губы. — Заводи хоровод, и поедем домой.
— Я… с тобой… никуда… не поеду… — выдыхаю медленно с внушительными паузами. Сглатываю и прочищаю горло. Смотрю на коленопреклонённых и насквозь промокших ребят. что-то внутри себя ломаю, но приоткрываю губы и затягиваю единственное, что сейчас приходит в голову — национальный гимн.
Ни на что не рассчитываю, просто хочу как можно скорее остановить это показательное измывательство. Но мои ребята один за другим поднимают головы и принимаются подпевать, пока на поляне, которую, кажется, природа сегодня решила вместе с крепостью смыть в бушующий за обрывом лиман, не образуется громкий, четкий и дружный хор голосов.
17
Я, блядь, за тобой гоняться не собираюсь!
© Кирилл Бойко
Только закрываю микроволновку, из-за угла выползает Любомирова. Сердце тотчас, словно у какого-то конченого чмошника, волну повышенного стресса ловит. Выдает странный кульбит и, раскидывая по телу кипучую кровь, дико топит в ребра.