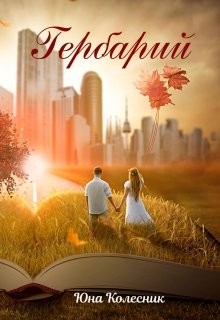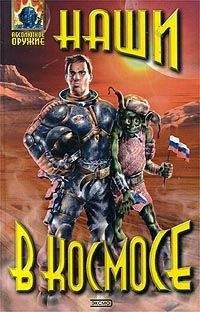Он понял, потянул её к себе за подол:
— Коленки холоднющие. Гуляла?
— Ага. На горе, — натянутой леской лопнула обида. — Зайчик приходил, я ему сухарик давала, не взял. И муравьи…
— Стоп. На горе? С кем?
— Ни с кем.
Он поставил её на ноги. Ухватил за плечи. Топором высек слова:
— Ты. Одна. Ходила. В тайгу?
— Да…
— Ты же знаешь, дочь! Нель-зя!
— Знаю. Ты спал…
Он молча обнял её. Крепко, не вздохнуть…
К Милке часто приходит это видение-воспоминание. В нём на следующий день она проснётся от свиста и криков, выскочит на крыльцо, увидит, как народ, собравшийся на улице, смотрит на гору. Там, над деревней, на той самой прогалине, бродит мишка. И сквозь прозрачный воздух очень чётко видно, как он недовольно нюхает землю, трясёт головой, встаёт на задние лапы. «Ворчит, наверное. Сердится, как папка…» — подумает Милка, обернётся и обожжётся об отцовский взгляд.
Потом как-то слишком быстро настанет зима, наметёт сугробы. Даже безлунными ночами снег будет словно светиться, проникая сиянием своим в небольшие, протыканные ватой оконца, и проложенные этим светом дорожки так и будут манить: «Пробегись…»
II
Милка не любила детский сад и каждый вечер подолгу возилась, придумывая, как бы с утра остаться дома.
Но в ту ночь она не спала по другой причине. Около десяти, когда дом почти затих и бормотала лишь печка, Милка сползла с высокой жаркой кровати, на которой спала вместе с бабкой Анной, пробралась в большую комнату. От босых шажочков скрипели деревянные половицы, звякали игрушки на ёлке. Она думала: «А мама говорит, это не ёлка, это кедр, только маленький. Пушистый… И шишки настоящие. Запах от них во всём доме. Для чего игрушки повесили? И дождик этот дурацкий. Всю красоту испортили».
Здесь, на стуле между родительским диваном и звенящим украшенным деревом, поверх Милкиного платьица, лежал он, Рыжик. От него пахло таёжным воздухом, снегом, диким зверем. Зачем его принесли домой? Беличьи хвостики — разноцветные — хранились высоко, на шкафу. Они были другими, бестолковыми, бездушными. Милка тихонько топнула ногой: «А Рыжик — живой. Он хочет обратно!»
Но мама вечером наскоро пришила его к пояску от платья: «Будешь Лисичкой на утреннике».
Отец с мужиками вчера вернулся с охоты. Это всегда радость, их возвращение. Звонко лаяли голодные собаки. Топилась баня. Допоздна в кухне сидели бородатые дядьки. Смеялись, курили, ели пельмени, вели неспешные разговоры:
— Песцы, соболя… рябчиков-то сколько…
— А на медведя — рано…
— Андрюха-то! Лису добыл! Редкость в наших краях.
— Милке подарок!
— Нинка! Тащи лисью шкуру! Хвост — долой!
— Доча, ну-ка, примерь!
Они сажали её на колени, дышали в лицо табаком и водкой, отец довольно улыбался. А Рыжик — яркий, длинный, до самого пола, с белым кончиком, переходил из одних грубых рук в другие, окутывал её шею и голову, щекотал…
Она улыбнулась, вспоминая, быстро стянула пояс вместе с Рыжиком со стула и унесла с собой в кровать. Так и проснулась с ним в обнимку.
Утро было колючее. Как и Милкино платье — шерстяное, ржаво-коричневое. Всё не так складывалось этим утром. Отец зло гремел ковшиком в сенях, мама наспех заплетала ей косы, дёргала волосы, торопилась и тоже сердилась.
— Ну всё. Дойдешь сама? Хвост не потеряй!
Милка кивнула. Одной идти не первый раз. До садика близко: вниз с горочки, налево и пройти два дома. Дорога всегда расчищена, всегда горят фонари — с самых сумерек до яркого дневного света. Иначе нельзя: здесь ездят лесовозы.
Она спустилась вниз, скользя валенками. Так. Теперь — самое трудное. Снять рукавички. Шубу расстегнуть. Развязать поясок. Сразу же замёрзли пальцы, а узел, тугой, крепкий, никак не поддавался. Справившись, вытянула-таки поясок. Вот и сугроб у забора. Там, за сараями, за огородами — речка, сразу за ней — тайга.
Она усадила Рыжика в снег, погладила, слегка подтолкнула:
— Ну-ка, Рыжик. Давай домой. А я пойду, пора мне.
Милка прошла шагов десять, на ходу застёгивая шубу. Оглянулась. В утреннем неровном свете из сугроба на неё сверкнули хитрые глазки. Вверх костром взметнулось рыжее пламя… И пропало, оставив лишь примятый снег. И ощущение чуда оставив — на долгие годы. Чуда, которое можно сделать своими руками.
Гораздо позже она узнает, что в тот день собаки как угорелые носились по деревне с лисьим хвостом. Дрались, трепали его, оставив в итоге лишь пару невнятных клочков. Она узнает, как в ярости бушевал отец, жалея добычу, а потом обошёл все дворы, уговаривая соседей молчать. Узнает, почему перемигивались мужики, встречая её на улице: «Лисичка наша идёт».
Но пройдёт и зима, и весна с ледоходом. Щербатые льдины снова снесут старый деревянный мост. Зелёным душным одеялом лето окутает всё вокруг — и сопки, покрытые тайгой, и постепенно вымирающую деревню, и реку, свободную, бурлящую…
III
Днём стояла жара, а холод, губительный для огородов, заставляющий Милку, когда она умывалась, скакать по веранде в сорочке, поджимая пальцы ног, холод этот опускался ночью.
Однажды субботним утром отец повёз её «прогуляться» — километров пять вверх по реке. Поставив мотоцикл на обочине, они вдвоём сошли, почти съехали по мелким сыпучим камням на берег. Отец снял рубашку, подвернул штаны и долго плескался, фыркая, стоя по щиколотку в воде. Милке «ножки помочить» он не разрешил, и она ушла за кустарник собирать ягоды.
— Доча! Ну-ка, глянь, что за паразит на спине у меня? — крикнул отец минут через десять, голос его был и требовательным, и чуть шутливым.
Отец сидел на корточках лицом к реке, курил, на голых подрагивающих лопатках золотились капельки пота. Милка спустилась по крутому берегу, щурясь, облизывая на ходу перепачканные земляникой пальцы, и опасливо остановилась на расстоянии.
— Слепень, пап. Большущий!
— Так прихлопни! — отцовские плечи нетерпеливо дрогнули.
Милка размахнулась, но ударила она не по треугольному большеголовому тельцу, а рядом, нарочно — просто напугать, не раздавить. Слепень загудел, улетая. Так же сердито заворчал отец:
— Эх ты, девчонка! Промазала? Где не надо, так смелая… А если б он меня сожрал?
Он вдруг вскочил, расставив руки, и побежал за хохочущей Милкой по отмели, по сухим, светлым, прогретым солнцем камням. «Не догнал, не поймал! — дразнилась про себя Милка, гордясь. — Я здоровски бегаю!»
Потом они ели варёные яйца с солью и черемшой, отмахиваясь от комаров и слепней ветками, срезанными отцовским охотничьим ножиком, похожим на маленькую широкую саблю. Смотрели на речку, вспоминали названия рыб: хариус, ленок, елец. Отец пил пиво из коричневых стеклянных бутылок, Милка — чай из блестящего термоса.
Говорливая речка шумела, перекатывая камни, словно нелущеные кедровые орешки за щекой — легко, играючи. На порогах завивалась пена, пушистая, непослушная, как мамины кудри. Милка спросила:
— Она торопится?
Отцовские глаза были близко-близко. Зеленоватые, озорные, внимательные.
— Река-то? Спешит, правду говоришь.
— А зачем?
— Так дружок у неё там, — отец махнул рукой куда-то вдаль, где кедры кивали, поддакивая. — Енисеем зовут. Он, знаешь, какой! Красавец! И силища у него… Вот подрастёшь, я тебя в гости к нему свезу. Поедешь со мной в Красноярск?
— Поеду, — Милка опустила взгляд, потому что хотелось, ужас как хотелось прижаться, уткнуться в его рыжую мягкую бороду. «И взлететь высоко-высоко, и визжать, и болтать ногами в воздухе. Но нельзя. Наверное».
Ей было уже почти шесть, год прошёл, как они с мамой приехали сюда к отцу, но Милка ещё не совсем привыкла, часто стеснялась, ещё чаще — скучала по городу, по дедушке.
Но в такие дни, когда суетливый посёлок с разбитой лесовозами дорогой оставался за поворотом, а вокруг танцевали дикие хвойные запахи, город покрывался зыбкой пеленой, становился призрачным, нереальным.