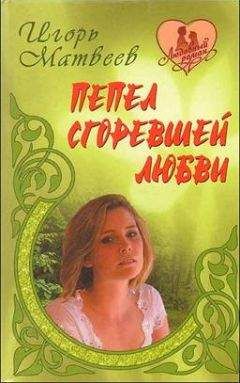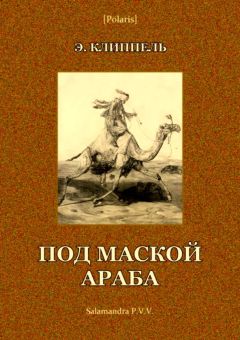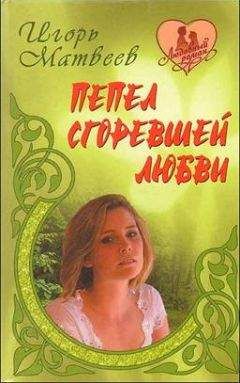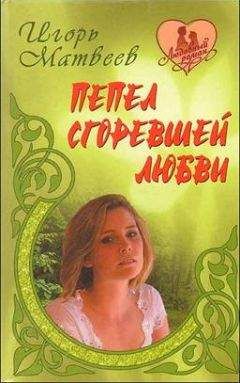— Не нормальный и не как все. Это и психиатр отметил. Просто ты не замечала, потому что это периодами. Л сейчас у меня как раз ухудшение, я чувствую. Сезонное. И от меня можно ожидать чего угодно.
Света внимательно посмотрела на меня, все еще не желая верить, что я говорю серьезно.
— К чему это ты?
— К тому, что я собираюсь сейчас сделать.
— И что же ты собираешься сделать?
— Проверить, выражаясь высоким слогом, глубину твоих чувств.
— Ну так проверяй, проверяй! — жарко зашептала она мне на ухо и, взяв мою руку, сунула ее в вырез блузки. — Это же проверяется совсем по-другому, причем здесь кора головного мозга, дурачок?
— У нормальных — да, — согласился я, отстраняясь. — А у психов…
Я запустил руку под матрац, пошарил там и достал нераспечатанную пачку долларов. Потом другую, начатую.
— Что это?
Она постаралась придать своему голосу и лицу надлежащее удивление, и, надо сказать, у нее это получилось. Почти.
— Деньги, как видишь. Баксы.
— О, как много… — с благоговением проговорила она, коснувшись пальчиком бесстрастного лица президента Франклина.
— Все, что у меня есть.
Света попыталась обнять меня.
— Саша, теперь мы…
— Нет, Света. Не теперь и не мы. Я вдруг стал не нужен тебе, когда был здоров, — а сейчас, когда я превратился в калеку, ну, наполовину калеку, ты ни с того ни с сего вновь полюбила меня? Только между тем Сашей Лемешонком и этим есть небольшая разница. Тот, с трудом скопив четыре сотни баксов, предлагал тебе съездить с ним куда-нибудь в отпуск. Тот любил тебя, тот готов был отдать тебе все. Ты ушла к другому. А этот Лемешонок, хоть и калека, как оказалось, имеет кучу «зеленых». Ведь я видел, как ты нашла их под матрацем и считала тогда, когда я должен был корчиться на унитазе. Почему бы не полюбить такого, да? Вот сейчас мы и проверим. Света, насколько это искренне…
Она покраснела, в глазах ее показались слезы.
— Не плачь, это совсем не больно. Иди на кухню.
Я перелез в свою коляску, бросил доллары на колени и покатил за Светой.
— Зажги конфорку.
Она открыла газ, машинально чиркнула спичкой, все еще не понимая, что я собираюсь делать. Потом до нее стало доходить…
— Саша, ты…
— Вот именно, — хладнокровно подтвердил я. — Я же сказал: стойкое расстройство психики. Неадекватное поведение.
Я подъехал к посудному шкафчику и достал большую кастрюлю, в которой Валентина когда-то готовила борщи. Света пользовалась другой, поменьше.
— Открой форточку. И сядь. Эта процедура займет какое-то время.
Она открыла форточку, потом опустилась на табуретку у кухонного стола.
Я взял первую купюру и поднес ее к пламени. Бумага весело вспыхнула зеленовато-желтым пламенем. Лицо американского президента искривилось от обиды. Света импульсивно подалась вперед, но я обжег ее жестким взглядом.
Я бросил горящую банкноту в кастрюлю, взял следующую. Потом следующую, следующую…
Через четверть часа кремация была закончена. Все Франклины превратились в горку пепла на дне кастрюли.
— Ну, вот и все, — объявил я. — Я же говорил, это совсем не больно.
— У тебя действительно больше… ничего нет?
— Ни гроша, — спокойно соврал я. — Точнее, ни цента. Теперь я, как говорили в старину, беден как церковная мышь. Завтра буду звонить в собес, узнавать, как оформляется пенсия по инвалидности: государство не может оставить в беде своего гражданина. Но тебе-то какая разница, а, Света? Ты ведь любишь меня — не мои деньги, да?
Несколько секунд она тупо смотрела на горку пепла, словно не понимая, что произошло. Потом подняла на меня глаза и выкрикнула:
— Ты… ты дурак! С жиру бесишься!
— Вот этого не смог бы при всем желании, — невозмутимо заметил я, — поскольку потерял почти пятнадцать килограммов. Откуда взяться жиру-то?
— Ну дурак! Придурок настоящий! — продолжала выкрикивать она. — Кретин! Да другой бы…
Боже, неужели эти дерьмовые зеленые бумажки могут изменить человека до такой степени?! Мне не хотелось в это верить.
— Света, — мягко проговорил я. — Я спас твоего сына.
Она вздрогнула, словно я ударил ее. Как звонкая пощечина приводит в чувство впавшего в истерику человека, так и мои слова вмиг остудили ее пыл. Света сразу притихла.
— Да. Прости меня, Саша. Прости.
В кухне воцарилась тишина, только капли из крана мерно стучали о дно раковины, словно секундная стрелка часов отсчитывала наши последние минуты вместе.
Я вдруг пожалел, что затеял этот спектакль. Зачем я унизил женщину, которую любил — пусть и когда-то.
«А она? — спросил меня внутренний голос. — Она не унизила тебя как мужчину, хоть и не намеренно, тем, что увидела в тебе нынешнем лишь мешок с деньгами?»
— У каждого своя правда, Света. Я понимаю, что ты чувствуешь. Я сжег зарплату, которую ты получила бы на комбинате — бог знает за сколько лет. А ты — ты не подумала, чем заплатил за это богатство я? Тем, что уже никогда не смогу быть таким, как прежде! Да я вернул бы все эти вонючие баксы, лишь бы вновь стать здоровым и сильным. Только здоровье, как известно, не купишь. Ты думаешь, я уехал в этот треклятый Ирак за деньгами? А я бежал, Света, — бежал от тебя, от нас, от памяти… — с горечью закончил я.
Кап-кап, кап-кап, тик-так, тик-так…
После долгой-долгой паузы Света подняла на меня вдруг ставшие больными глаза.
— В чем моя вина, Саша? В том, что я… хотела бы жить лучше?
— Нет, Света. В том, что ты предала меня… мою любовь. Второй раз.
Она встала. Ссутулившись, даже вроде став ниже ростом, не глядя больше на меня, повернулась и вышла из кухни.
Я развернулся на кресле и уставился в окно.
Я слышал, как она ходит из комнаты в комнату, собирая свои вещи. Потом в прихожей послышался звук шагов.
Щелкнул замок входной двери, и Света ушла из моей жизни.
Навсегда.
Я подъехал к зеркалу.
Темные круги под глазами, какие-то новые морщины, утомленный вид. Я плохо спал эту ночь, я все еще думал о Свете. Но теперь я знал, что все же научусь жить без мыслей о ней, без воспоминаний. Со временем.
— Я — не хороший, я — не плохой, я — такой, какой есть, — проговорил я, глядя на свое отражение. — Если я черный, полюбите меня черным, а беленьким меня всякий полюбит. Если я калека — полюбите меня калекой, потому что здорового и сильного полюбить нетрудно. Если я без денег, полюбите меня без денег. Потому что с деньгами меня полюбит каждый — только это будет не любовь. Это будет проституция.
Завтра мне исполняется сорок шесть. Сорок шесть — это ведь не конец, верно? Да, я парализован, но — теперь я знал это — не весь, не совсем. Еще лет двадцать я буду способен увлекаться женщинами, любить, страдать… Еще лет двадцать мне будут доставлять наслаждение прикосновения, поцелуи, объятия… Еще лет двадцать…