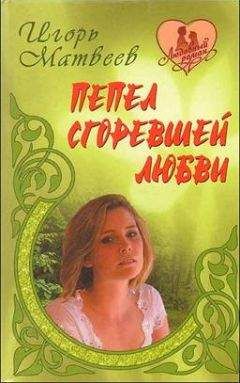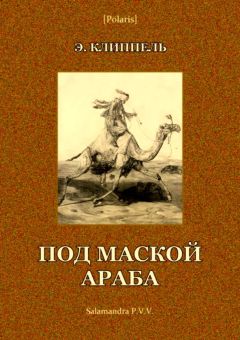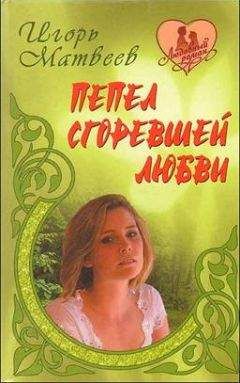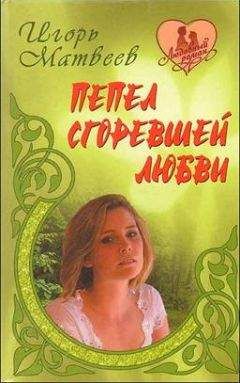Игорь Матвеев
Пепел сгоревшей любви
Перед тем как позвонить матери, я долго колебался: сказать ей правду или что-нибудь придумать? В конце концов, я решил, что прямой путь — всегда самый короткий, набрал код города и ее номер.
Она долго не снимала трубку. После пятого или шестого гудка послышался слабый больной голос:
— Да.
— Здравствуй, мама. Это я.
— Здравствуй. Саша.
— Ну как ты?
— Скриплю помаленьку. Суставы совсем замучили.
Я не знал, что сказать, и лишь сочувственно прищелкнул языком.
— Н-да. Проблема, — я помолчал. — Я уезжаю в командировку, мама.
— И куда же?
— В Ирак.
Она то ли охнула, то ли просто глубоко вздохнула. С этой страной у нее были связаны неприятные воспоминания. Я с юности знал эту историю, хотя в застойные годы в нашей семье о ней, по понятным причинам, предпочитали помалкивать. Лена, моя двоюродная сестра, еще в середине 70-х влюбилась в араба, с большим скандалом уехала в Ирак, где и вышла за него замуж. Прожив в Багдаде много лет и потеряв мужа, она решила вернуться на родину.
…И умерла в самолете от сердечного приступа. Дело было в начале 2000 года. Тетя Клава, сестра матери, прислала ей потом вырезку из районной газеты с большой статьей под названием «Прощай, Багдад…», в которой излагалась душещипательная история отношений студентки Елены Кондратьевой и аспиранта-иракца Ахмеда Аззави, прибывшего на стажировку в Советский Союз. Пару лет назад, когда я последний раз навещал мать, она показала статью мне; помнится, прочитав ее, я решил, что этот материал в руках опытного сценариста мог бы стать основой для потрясающего сериала.
— Там же война, сынок, вон по телевизору сколько показывают. И что ты там забыл? — горестно поинтересовалась мать.
Я точно знал, что в Ираке я не забыл ничего — по той простой причине, что там никогда и не был. Поэтому я проигнорировал вопрос и сказал:
— Заехал бы к тебе, но уже просто нет времени.
— Ну, конечно, — проговорила она и с горечью добавила: — Деточки…
— Да не начинай ты, мама!
Наверное, все люди, достигнув пожилого возраста, начинают охать и ахать по поводу эгоизма собственных детей, хотя чей эгоизм сильнее — еще вопрос.
— И надолго ты? — уныло поинтересовалась мать.
Вопрос, конечно, интересный…
Который я боялся задавать себе и сам. Потому что тут же возникал другой: а к чему мне возвращаться? Чтобы снова и снова бередить и без того незаживающую рану?
Но об этом я промолчал.
— Как получится. До свиданья, мама…
— Как хоть его зовут?
— Не все ли равно?
— Вообще-то да, — согласился я.
— Тогда что спрашиваешь? Ну, Виктор.
— Витек, значит. И чем же он лучше меня, этот Витек?
Света пожала плечами.
Я поцеловал ее теплую ладонь.
— Тогда все. Прощай.
— Но мы… но мы же останемся друзьями? — спросила она.
— Нет, не останемся. Друзей у меня хватает и без тебя. А у тебя — без меня. Вежливой дружбы не будет. Тренируйся вон на кошечках.
Она взглянула на меня, как на придурка.
— На каких кошечках?
— Это из «Операции «Ы».
— А… — она помолчала. — Ты прости меня, Саша. Так получилось… я сама не ожидала.
— Ясное дело. «Любовь нечаянно нагрянет…» Как расстройство желудка.
Я допил стакан апельсинового сока, даже не почувствовав его вкуса. Света машинально складывала салфетку — вдвое, вдвое, еще раз вдвое — до тех пор, пока в руках у нее не остался маленький белый квадратик размером с почтовую марку. Я видел, что она хочет сказать еще что-то, но понимал, что все дальнейшие разговоры станут пустой тратой времени — главное было уже сказано и умещалось в двух словах: «Я ухожу». Я подозвал официантку.
Мы поднялись из-за стола.
Прощаться — больно. Особенно когда понял, что это не просто женщина, с которой ты проводишь время от скуки, а женщина, которую ты любишь. Еще больней осознавать, что и она тебя когда-то любила. Но, как известно, сердцу не прикажешь. Если ей стало лучше с другим, какое ты имеешь право навязывать себя?
Своему сердцу я тоже приказать не мог. И оно болело.
Три дня я смотрел на ее фотографию, как на икону, три дня почти ничего не ел, три дня не включал телевизор и не подходил к окну. Я только позвонил на работу и сказал, что заболел, хотя, по большому счету, мне было уже все равно, уволят меня за прогулы или нет. Как ни странно, я не мог позволить себе напиться, потому что алкоголь является универсальным растворителем, который разгоняет и самые черные краски. Надравшемуся человеку все видится совершенно под другим углом: я немедленно взялся бы звонить Свете, с пьяным оптимизмом уверяя себя, что между нами произошло лишь досадное недоразумение и что стоит ей после нашей трехдневной размолвки вновь услышать мой голос, как она воспылает ко мне прежними чувствами. Только этого быть не могло: я понял, что ее намерение бросить меня и начать все заново с неизвестным, но ненавистным мне Витьком было самым серьезным.
Смысл ушел из моей жизни, даже не пообещав вернуться. Трезвый, осунувшийся и мрачный, я лежал на кровати прямо в одежде, тупо созерцая потолок своей комнаты. За эти дни я изучил на нем каждую щербинку, трещинку и царапинку, наверное, не хуже, чем прославленный путешественник Федор Конюхов изучает карту своего очередного маршрута. Кажется, это называется нервный срыв. Или что-то около.
И это состояние, эта боль и безысходность привели меня к мысли о самоубийстве.
Для этого было вовсе не обязательно лезть в петлю или включать все газовые конфорки на кухне: не желая показывать окружающим свою слабость, я решил обставить собственный уход из жизни совсем по-другому.
Поехать на «Юсифию».
Звонок раздался ровно в двенадцать часов ночи, — как она поняла потом, время было выбрано совсем не случайно: они давили на ее психику.
Она включила прикроватную лампу и взглянула на телефонный аппарат. Определитель номера высвечивал лишь штриховые линии: звонили либо с мобильника, либо из другого города.
— Светлана Сергеевна? — раздался вежливый и вкрадчивый голос, которым обычно и разговаривают в кино злодеи.
— Да. Кто это?
— Я друг вашего Славы. Он вам ничего не рассказывал?
— О чем? — с трудом сдерживая раздражение, проговорила Света. Какие, к черту, друзья и разговоры в первом часу ночи!
— О своих проблемах.
Она почувствовала на спине неприятный холодок.