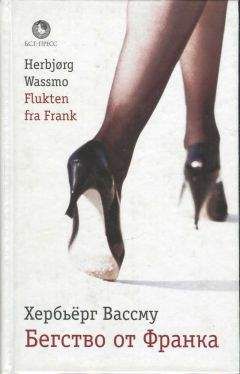— О’кей, сдаюсь. У тебя чесотка. Ты провела курс лечения, чтобы избавиться от этой гадости, значит, теперь ты никого не заразишь. Довольна? — сказала Фрида.
Но я не была довольна. Она говорила со мной, как с дурочкой или с ребенком. Поэтому я ей не ответила. И начала готовить наш любимый салат, а она жарила филе цыпленка. Но прежде я тщательно вымыла руки. Осмотрела их, вытерла бумажным полотенцем и бросила его в мусорное ведро.
Кроме салата-руккола, в нем был зеленый лук, томаты и мелко нарубленный имбирь. Заправлен он был белым перцем, винным уксусом и оливковым маслом. Я немного успокоилась, вспоминая необходимые ингредиенты и смешивая все вместе так, как я привыкла.
— Я понимаю, что тебе неприятно чувствовать себя прокаженной. Давай заключим мир? — предложила она через некоторое время.
— Давай, — согласилась я.
— В Осло ты мечтала о постоянном абонементе на концерты, но у тебя не было возможности купить его. А в Берлине ты будешь слушать Венский филармонический оркестр. Дирижер обаятелен до умопомрачения!
— Я видела его по телевизору, истинное дворянское благородство.
— В Англии дают дворянство всем подряд, там вовсе не обязательно быть связанным пуповиной с высшим классом. Но этот дирижер, безусловно, сэр, и способен держать в узде парней из Вены, — без всякого уважения заметила Фрида.
— Сколько банкоматов мы использовали в Берлине? — спросила я, когда мы купили билеты по кредитной карте.
— Опять начинаешь? Одним больше, одним меньше, какая разница.
— Не знаю, разумно ли оставаться здесь так долго?
— Если ты намерена продолжать в этом духе, так уж лучше самой явиться в полицию с повинной. Советую тебе сосредоточиться на концерте. Музыка! Можешь напевать про себя, можешь — вслух. Что угодно, — сказала Фрида.
Я не стала петь, приводя себя в порядок. На пятьдесят первом Берлинском фестивале мне предстояла встреча с Венским филармоническим оркестром и дирижером, которого я видела только по телевизору. В первом отделении программы стояла Вторая симфония Бетховена, во втором — Пятая.
Мы сидели в третьем ряду. Я — на двенадцатом месте.
Дирижер оказался ниже ростом, чем я его себе представляла после концерта по телевизору. В жизни люди всегда выглядят иначе. Они как будто сбрасывают с себя наши представления о них. Реальные люди в определенном смысле разрушают наши мечты о них. Волосы у него были не такие золотистые, как в телевизоре. Со стальной сединой. При этом освещении все казалось серым или черным. Он стоял спиной к залу, не считая тех мгновений, когда приходил и уходил. Дирижеры по нескольку раз выходят и уходят. Но этот вышел на сцену самоуверенно, с небрежной элегантностью. Эта рутина стала для него естественной. Все равно что много лет разгадывать кроссворд в одной и той же газете. Надо только привыкнуть, а там справишься с этим даже с похмелья.
Я думала о том, что происходит с нашими представлениями об известных людях. Мы ловим их в сети своего воображения и придаем им новую форму. У них нет возможности избежать этой трансформации. Чем больше они показывают нам себя, тем крепче мы их держим в руках. Можно подумать, что в конце концов они перестают быть самостоятельными существами и живут только той жизнью, какой им позволяет жить наше воображение.
После антракта дирижер начал с легкого движения — ласковое прикосновение к левой щеке. Словно он что-то держал в кончиках пальцев. Потом, приоткрыв рот, повернулся вбок к определенным музыкантам. Настоящий обольститель. Возможно ли, чтобы человек так верил в силу собственного обаяния? Неужели этого достаточно, чтобы оправдать свою жизнь?
Или сей благородный дирижер совсем иначе, не так, как Франк, был жертвой чего-то большего, чем само обольщение? Может быть, музыка требовала этого от него в такой степени, что он уже сам не знал, обольщает ли он ради искусства или ради своих эгоистических интересов. Даже в тех случаях, когда не стоит с палочкой в руке и не дает интервью по телевидению. Некоторые из легендарных личностей мира сего остаются жить в памяти людей и в записях о них. Таким образом они живут, если и не лучше, то, во всяком, случае более на виду, чем в действительности.
Теперь он подошел к самому краю подиума. Еще шаг и загородка уже не удержит его. Но он не упал. Нет. Он двигался семенящим шагом с какой-то игривостью, словно все на свете подчинялось кончикам пальцев его рук и ног. Весь оркестр, исполняющий трепетную третью часть.
В последней части, Allegro Presto, я заплакала, вероятно, не в том месте, где нужно. Оказалось, у меня были струны, о которых я не подозревала. В тот вечер они мне не подчинялись.
На другую ночь после концерта мне приснилось, будто я пишу о женщине, которая преследует дирижера — от концерта к концерту, из города в город, по всему миру. Несмотря на то, что эти лица казались вполне реальными, они, тем не менее, были персонажами романа. Может, даже персонажами трилогии.
Я понимала эту женщину, хотя ее действия были прямо противоположны моим. Благодаря им она имела возможность не только слушать музыку, но и получала радость, находясь целых два часа там же, где находился он. В моем сне она попыталась даже проникнуть в его гостиничный номер. Улучив момент, она схватила с доски портье ключ от его номера. В каком это было городе и в какой гостинице, я не знаю. Мне, вообще, хотелось бы лучше запомнить этот сон. Но я помню, что отчетливо ощущала ее необоримую одержимость. И, как бывает только во сне, я чувствовала каждый удар ее сердца. Она поднялась на лифте на верхний этаж и по толстой ковровой дорожке пробежала по длинным коридорам. Неожиданно она вставила ключ в замочную скважину двери, на которой не было номера. На всех остальных дверях были изящные медные дощечки с номером, а тут — ничего.
Когда дверь открылась, оказалось, что за нею находилась сцена, на которой, естественно, спиной к женщине, сидел целый оркестр. Музыканты ждали дирижера. Перед ними темнел концертный зал, в котором сидели несколько сотен зрителей. У зрителей в первом ряду блестели глаза, у одной дамы навязчиво позвякивала серебряная брошь, приколотая к платью.
И вот он вышел на сцену! Вышел с правой стороны и протиснулся мимо женщины, думавшей, что она попала в его номер. Одно мгновение он стоял к ней спиной, принимая аплодисменты зала, потом повернулся лицом к ней и к оркестру. Почти не открывая глаз, он поднял дирижерскую палочку и превратился в фавна из «Послеполуденного отдыха».
Я видела то же самое, что видела женщина, словно это был крупный план на экране телевизора. Быстрые движения дирижера, его пронзительный взгляд и насмешливое высокомерие, которое несомненно раздражало всех мужчин в зале. Он был не просто обольститель, кое для кого он был явно опасен. Его волосы, короткие локоны, находились в непрерывном движении. Уголки рта то поднимались, то опускались, приглашая к чему-то, что невозможно было понять. И каждый раз, когда он становился демоническим и неистовым, на губах у него мелькала улыбка, словно он обещал познакомить всех с кем-то необыкновенно интересным.