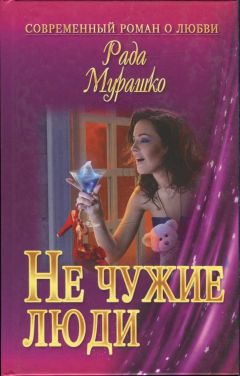— Никто, — Валерия задумчиво покачала головой. — Кроме тебя, никто.
— Лера…
— Я не в этом смысле, — она устало усмехнулась. — Я точно знаю, что это не ты. Просто действительно больше никто ничего важного не знает.
Да, от нее никто ничего не узнал, незачем было даже спрашивать. Но ведь это не значит, что ничего не известно в принципе! Всегда находятся очевидцы. Соседи, те же знакомые, врачи в поликлинике… Бывший любовник. Тот, от которого она родила и которого через пару лет посадили. Он-то точно в курсе всех перипетий. Смысла в этом, конечно, нет, но… Других вариантов тоже нет! Никто ведь не знает, где он сейчас. Может, ему что-то надо от Валерии. Может, она чего-то не заметила или не поняла…
Наверное, Лере стоит рассказать следователю правду. Но она такое предложение и слушать не станет!
— Я никогда никого не любила, — неожиданно сказала Валерия, обращаясь не то к самой себе, не то к прожорливым огненным языкам, весело пирующим в камине и совсем не интересующимся глупыми человеческими переживаниями. Игнат, задумавшись, уже и забыл, что она сидит тут же, рядом, обхватив руками колени и гипнотизируя огонь.
— У меня не было ни подруг, ни… привязанностей. Ничего. Я же знаю, что это такое! Мой отец любил маму. Правда, очень любил. А она все время требовала, требовала… То есть нет, не требовала, а строила планы. Мечтала. Так, будто у других не может быть ни своих желаний, ни своей жизни. Папа не справлялся и начал пить. Они ругались, кричали, но продолжали вместе жить, потому что он все еще зарабатывал. Хотя всем она говорила, что это мне нужен отец. Потом зарабатывать начала я, и они развелись. Вот такая любовь. Одни беспокойства, и никакой радости… Я так берегла свою жизнь, чтобы ничего такого никогда не было… И что толку? — Лера резко повернула голову и глянула слишком сухими сверкающими глазами. — Меня… травят, как если бы я была окружена толпой жаждущих наследства детей, мужей, невесток… Хотя тогда я по крайней мере могла бы кого-то подозревать.
Игнат молча обнял ее за плечи, привычным движением потянулся ободряюще чмокнуть в висок, но почему-то вместо этого наклонился ниже, стараясь найти тонкие, почти всегда чуть кривящиеся — то иронично, то раздраженно — губы. Раньше, чем разум успел как-то оценить происходящее, Валерия вскинула руки, обхватывая его за шею. Мягкое, податливое тело послушно опрокинулось на пыльный пушистый ковер…
* * *
Огонь больше не издевался, демонстрируя свою непричастность к житейским волнениям. Наоборот, он весело подмигивал, танцевал, убеждая, что все пройдет, бесконечна только радость, живущая в каждом человеке и готовая прийти по первому зову, без пустых вещественных причин и поводов.
Валерия вяло шевельнулась, и Игнат тут же лениво опустил руку ей на живот, то ли стараясь удержать, то ли убеждаясь, что она действительно лежит тут, рядом. Валерия перекатилась на бок, устраиваясь удобнее, и замерла. Как, однако, странно все получилось. Неожиданно и… хорошо! Первый раз в жизни ей почему-то не мешает чужое дыхание, не хочется вскакивать и куда-то идти, пить ледяное белое вино и изучать огни за окном, представляя безымянные чужие жизни… А может, нет ничего неожиданного? Наоборот, наконец-то пришло то, что они должны были понять еще много лет назад? Просто тогда они не оставили друг другу ни малейшего шанса своей болтовней о самостоятельности и пренебрежении к «высоким чувствам»?
Говорить было лень. Да, собственно, и незачем — и без того хорошо. От камина медленно плыло тепло, обнимая и баюкая. Падая под жадным напором огня, с громким треском рухнуло полено. «Надо подкинуть еще, а то к утру вымерзнем», — успела подумать Валерия, засыпая.
Павел Липатов энергично расхаживал по кабинету, делая вид, что обдумывает, как лучше начать разговор. На самом деле он просто нервничал. Конечно, нужно позвонить Валерии, предупредить. Ему ни на минуту не пришло в голову, что она сама может в этом участвовать, нет. Когда у тебя есть положение, имя, круг привередливых клиентов и неплохой оборот, не станешь рисковать репутацией ради незначительного навара. Но если история вылезет наружу, это не будет иметь никакого значения. Надо позвонить.
Если бы они оставались просто партнерами, как раньше! Тогда это не составило бы никакого труда. Но теперь все так… странно, неловко и любопытно. Да, несмотря на все старания и доводы разума, он не мог избавиться от навязчивого, болезненного или, может, наоборот, естественного любопытства.
Хотя он никогда всерьез не задумывался о матери, не пытался ее представить и уж точно не собирался искать, в голове невольно возник и жил ее образ. Павел считал, что его родила какая-нибудь малообразованная наивная провинциалка, уехавшая из родной деревни в надежде на удачу и не справившаяся с жизнью в равнодушном большом городе.
Наверняка она работала на каком-нибудь заводе, который обеспечивал служащих общежитием, получала копейки, которых вряд ли хватало даже ей одной, возможно, пила и не видела в жизни ни надежды, ни просвета. Она не могла позаботиться даже о себе, не то что о нежданном ребенке…
Такой образ возник давно, еще в раннем детстве, когда он каждый день видел слабовольных, всегда настороженных женщин, робко останавливающихся у ворот детского дома и пытающихся высмотреть в одинаковой серой толпе своего ребенка. Те всегда замечали их первыми, бросались навстречу.
Некоторые из матерей плакали, жалобно заглядывали в лицо сыну или дочери, желая отыскать тень доверия и любви, клялись, что совсем скоро все будет по-другому, все будет хорошо… Другие суетливо искали в карманах слипшиеся мятые карамельки, сбивчиво бормотали что-то о домашних делах и о жизни вообще — что угодно, лишь бы не возникло паузы, лишь бы безнадежно цепляющийся за материнскую руку ребенок не начал говорить сам…
Обычно после таких визитов дети плакали. Кто-то тихо и безнадежно, спрятавшись ото всех; кто-то громко, с истерикой, и тогда воспитатели злились и тоже начинали кричать… Павел смотрел на все это, безучастно застыв в сторонке, и тоже хотел плакать. Но терпел, потому что все равно никто не пожалеет, а если пореветь в одиночку, а потом, как обычно, стать в строй и под раздраженные окрики воспитательницы идти на ужин, глотать вязкую безвкусную кашу и ненавистный кисель, то становилось совсем уж плохо.
Вместо этого он научился мечтать. Даже не то чтобы мечтать, а представлять, что все когда-нибудь будет по-другому. Павел почти зрительно видел картинки другой, счастливой и праздничной жизни, с нарядными веселыми людьми и яркими красками. Он пытался рисовать, но картинки получались плоскими и невыразительными, совсем не повторяющими тех ослепительных видений, которые послушно оживали в голове.