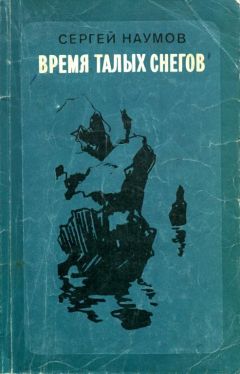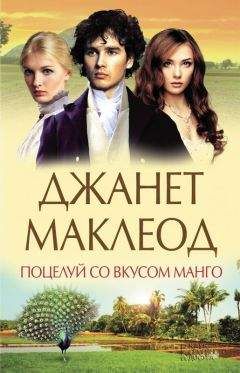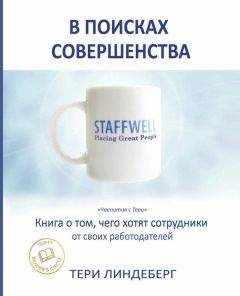Среди идей встречались: новые сюжеты и рубрики; варианты композиционного расположения частей журнала; цветовое решение обложки; детали оформления отдельных страниц; темы литературоведческих дискуссий; способы отбора художественного материала; наконец, принципиальные нравственные ориентиры и общий тон обращения к читателю!
Записывать их все не было никакой возможности, и я только время от времени наскоро набрасывала несколько строк в какой-нибудь старенькой тетрадке, а уж потом, произведя безжалостный отсев, помещала наиболее перспективные в новый красно-желто-коричневый клетчатый блокнот, который намеревалась вскоре представить к обсуждению редколлегии.
Некоторыми из идей я делилась с Римусом и Людасиком:
– Между прочим, кто сказал, что я против эротики? В литературе возможно все! Но – в системе определенных эстетических координат. Тут все решают вкус, такт и чувство меры. А кому недостает клубнички – пусть идет в публичный дом!
– Ну ты даешь, Марыська! – изумлялась Римус. – Вот что значит – в тихом омуте!
А Людасик вздыхала мечтательно:
– Может, глянете потом стихи моей Онищенко! Безголовая девица, но все-таки, мне кажется, не без искры...
И вдруг в один прекрасный день все изменилось... И настало время сходить с ума!
Настало время избегать пытливого маминого взгляда и принимать как должное заинтересованные взгляды мужчин. Время помолодеть на двадцать лет и похудеть на четыре килограмма. Время просыпаться среди ночи с улыбкой на губах и с той же улыбкой вглядываться в очертания деревьев на фоне иссиня-черного неба за окном.
А вся Вселенная, казалось, вглядывалась в меня, гадая – что же со мной случилось или вот-вот должно случиться?
И настало также время растерянно блуждать от прилавка к прилавку в косметических отделах и парфюмерных салонах и наконец, потеряв голову, выбросить бешеные деньги на тушь «2000 калорий» и духи «Палома Пикассо».
Словом, настало время великого ожидания...
Я придирчиво разглядывала себя в зеркале и невольно замечала совершенно не свойственный мне ложно-многозначительный взгляд блестящих глаз, легкий румянец и общее томное выражение лица.
Возможно, помышляла я, мне вскоре понадобится платье для коктейлей: темно-синее, на узкой стразовой лямочке, в котором полагается слушать джаз – ту самую «золотистую музыку», которую так упоенно описывал романтический Фицджеральд; музыку, в такт которой вплетаются самые нежные и страстные слова.
А быть может, мне потребуются бирюзовые брюки и белый пуловер без рукавов с высоким воротом, а также ярко-желтый купальник – в точности как те, что выбрала Дани Лонго, «дама в очках и с ружьем в автомобиле» короля психологического детектива Жапризо, когда мчалась в чужом «тендерберде» к морю, солнцу и никогда не испытанному счастью...
Но все эти, а также другие важные подробности моей жизни зависели ныне от сюжета, который разрабатывал в своем воображении некто Валерий Галушко, инженер человеческих душ, он же – замредактора «Литературного цеха». И он же – автор «Премьеры полета».
Это было пока что и все, что я о нем знала.
И еще я знала, что его голос по телефону, когда он звонит мне, чтобы посоветоваться по поводу какого-нибудь фразеологизма или различия между значениями прилагательных «магический» и «магнетический», звучит порой насмешливо, порой – застенчиво, но чаще всего – ласково-покровительственно. И это раздражает меня и в то же время... в то же время...
Последний глагол никак не поддавался определению.
Предчувствия не обманули меня.
Этот день все-таки настал...
Да, настал тот самый день, когда он выговорил-таки эту волшебную, магическую, магнетическую фразу: «А кстати, какие у тебя планы на завтрашний вечер?»
И разве не стоила эта фраза целого романа?!
Я повторяла ее целиком, фрагментами и по одному слову, словно перечитывая любимое произведение. Словно «Премьеру полета» – с новым продолжением!
И настал тот самый вечер!
Вечер, когда оказалось, что «золотистая музыка» означала шелестящее позвякивание медных тарелок, тронутых палочкой музыканта. Хотя, если разобраться, никакого музыканта в этом кафе не было – только крутилась кассета на магнитофоне. Но где-то все это, несомненно, присутствовало – золотистые тарелки, рассеянные взгляды праздной публики и суровое, отрешенное лицо длинноволосого ударника, доверяющего свои чувства не беззаботной толпе, но тонкой волшебной палочке.
Присутствовала также и водная стихия. Моря, правда, не было, зато бойко журчал фонтанчик, приютившийся в уютном уголке зала, как раз напротив нашего столика.
И во взгляде Валерия я совершенно отчетливо прочла, что мой серый вязаный свитер и юбка представляются ему вполне подходящим нарядом для коктейлей.
Сам он был в темно-синем пиджаке и белоснежной рубашке. Он походил на Валерия Меладзе. Когда это в последний раз напротив меня сидел мужчина в такой рубашке? И когда еще этот мужчина говорил голосом тихим и низким, точно собираясь вот-вот открыть мне сладостную тайну, после которой в мире не останется ни зла, ни несчастья, ни горя?
Некоторые слова, впрочем, не достигали моего слуха, однако тут же восполнялись музыкальной фразой – ибо музыка участвовала в нашем разговоре, как равноправный собеседник, и порой решительно изменяла его направление. Например, под быструю музыку мы беседовали больше о жизни и быте – о детстве, о коллекциях марок и конфетных фантиков, о школе и экзаменах. Тут Валерий, надо заметить, не блеснул оригинальностью, а двинулся по проторенному пути, рассказав к школьной теме пару анекдотов об учителях. (В таких случаях Римус мгновенно подбирается и, сузив глаза, говорит противным голосом: «Спасибочки, премного благодарны!» Но я-то ведь не Римус. И, собственно говоря, вообще не учительница! Так что вполне могу позволить себе посмеяться в нерабочее время и в нерабочем месте.) И блюда нам тоже подавали под быструю музыку. Я оценивала их чисто внешне: вот бело-желтые кружочки горкой на темной тарелке, а вот – коричневатые пластинки с зеленой каймой. Ощущала я, впрочем, также их температуру и консистенцию: некоторые приятно холодили и таяли во рту, другие же требовалось разжевать, стараясь не обжечься. Не способна я была в этот вечер только оценить их вкус, а также понять смысл и назначение процесса жевания.
Под медленную же музыку мы говорили о душе и смысле жизни. И, конечно, о литературе. О героях и героинях. Валерий полагал, что искать их автор должен годами, кропотливо и неустанно, как ищет свою жилу золотоискатель. Я же со своей читательской колокольни не видела в этом большой проблемы. Мне в герои вполне годился осветитель Прохор. И я сочла момент вполне подходящим, чтобы высказать Валерию некоторые свои предложения относительно его дальнейшей судьбы. Он слушал меня сначала с рассеянной улыбкой, потом повнимательнее и в конце концов, нахмурившись, спросил с тревогой: